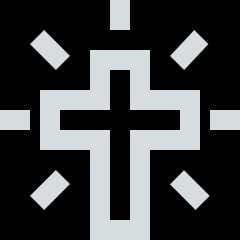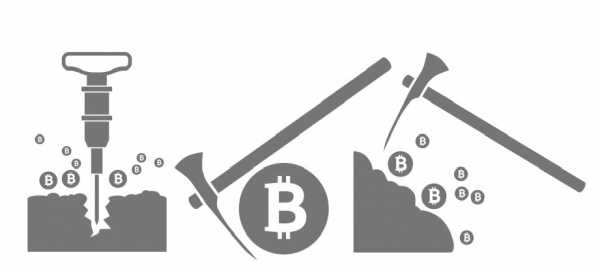Дмитрий быков в эфире эхо москвы
Дмитрий Быков — Один — Эхо Москвы, 15.06.2018
Д. Быков― Доброй ночи, дорогие друзья. Ну, естественно, отговоримся сначала по некоторым внешним поводам. Конечно, царство небесное Станиславу Говорухину. Многие предлагают сделать лекцию о нем, но, видите ли, я не очень вижу, что добавить к некрологу, который у себя в блоге написал Андрей Шемякин. Да и, честно говоря, не вижу я темы для масштабной лекции в творчестве Говорухина, режиссера очень большого, очень профессионального, разнообразного. Но все-таки как мне кажется режиссера без своей глубинной темы.
Очень символично и странно получилось, что он ушел практически одновременно с Кирой Муратовой, его ровесницей и, в общем, подругой, потому что именно в ее фильме «Среди серых камней» он сыграл, не побоюсь этого слова — великую роль. Лучшую свою роль — роль судьи. Отца. Эта экранизация, если кто не знает «Детей подземелья». «В дурном обществе».
Я больше гораздо ценю Говорухина сценариста. И прежде всего сценарий «Вторжение», он сам всю жизнь жалел, что отдал эту картину снимать другому режиссеру, тоже крепкому профессионалу, но думаю, что если бы снимал он, это был бы бесспорный шедевр. Абсолютно великая картина о последнем дне перед войной. Сценарий очень мощный, да надо сказать, что и сценарий «Подмосковных вечеров» Тодоровского замечательный по-своему.
Но вообще он был профессионал великолепный и человек он был хороший. Вот когда я на него смотрел, я понимал действительно, что за его агрессией очень часто стоит ранимость и интеллигентность, что замечательно показано, кстати, и в роли Крымова Васи, и в роли судьи вот этого страшного в муратовский картине. Очень талантливый и непоправимо изуродованный, к сожалению, оттуда лучшие сцены вырезали, а доснять было нельзя — выросли дети.
Естественно, я поздравляю всех с ослепительной победой нашей сборной 5:0. Я живу недалеко от университета, фан-зона рядом и радостные крики до меня доносятся и, в общем, всегда приятно разделить общий восторг. Теперь что касается лекции, почему-то больше 10 заявок на Ахматову. С чем это связано я не знаю, вроде юбилейных дат никаких нет, предлогов никаких особенных нет.
Про Хлебникова просят поговорить, про Велимира. Хотя я бы с большим удовольствием поговорил про Олега, у него только что вышла новая книга, я считаю, что он замечательный поэт. Но просят Велимира. Я не специалист, у меня лежит дома довольно много хлебниковских изданий и довольно приличная библиография книг о нем, накопленная во время работы над биографией Маяковского. Но поскольку я Хлебникова все-таки не считаю гением, считаю его очень большим поэтом и человеком, безнадежно больным, но при этом, конечно, очень влиятельным, очень значимым для русской поэзии, я не возьмусь говорить, не возьмусь добавлять масло в огонь. И так уже идет бешеная полемика о том, был он гением или душевнобольным или душевнобольным гением. Я солидарен с мыслью Луначарского, что иногда душевнобольные оказывают на литературу больше влияния, чем здоровые. Но говорить об этом я не могу, я недостаточно для этого авангардист. Хотя Хлебников, конечно, с моей точки зрения поэт высокого класса. Ну пока Ахматова. Если будут какие-то другие идеи и заявки то, пожалуйста, пишите на [email protected].
Вот просят поговорить о фильме Говорухина «Благословите женщину». «У вас была на нее рецензия». Ретенция была и довольно комплиментарная, потому что я считаю, что это хорошая картина и он сам там сыграл вот этого стреляющегося старика генерала. Замечательно, когда он говорит: «Холодно, сынок». И действительно холодно и в этом времени, и в России. Сам он был человек, конечно теплый и сострадательный. Но я не возьмусь опять-таки сейчас говорить об этой картине, о дебюте Светланы Ходченковой. Потому что я давно не пересматривал, общий пафос такой немного мопассановский. Как и роман «Жизнь».
Все такие знаете женские жизнеописания, когда женщина всю себя отдает такому неблагодарному мужскому роду и все-таки обретает в этом какой-то смысл. Здесь еще, конечно, есть еще момент некоторой неблагодарности родины. Вообще из всего, что снял Говорухин в последние годы, мне самым удачным кажется фильм «Не хлебом единым». Это очень точная стилизация под советскую производственную, отчасти экзистенциальную драму. И не говоря уже о том, что Роман Дудинцева первоклассный и не менее актуальный сегодня, у него передан на экран с педалированием ровно тех мест, которые там первостатейно важны. Так что я как раз люблю скорее эту картину и считаю ее главной удачей позднего Говорухина. Из раннего помимо «Места встречи», которую я недавно пересмотрел, немного разочаровался, но все равно это очень хорошо и на безрыбье 80-х это просто культовое кино.
Но я, конечно, очень люблю у него «Капитана Гранта» сериал, очень мне нравятся некоторые куски «Вертикали». Все-таки это выдающееся кино и я считаю, что очень сильная картина «Десять негритят». Во всяком случае, атмосфера советского, конца эпохи, она передана безупречно, хотя Говорухин мне в интервью говорил, что ничего подобного в виду не имел. Он хотел снять готическое упражнение такое, он еще очень литературный режиссер, но видимо это отчаяние так носилось в воздухе, что картина говорит о 85-90 годах гораздо больше, чем «Великая криминальная революция» Или «Так жить нельзя». «Так жить нельзя» — растерянная картина, за все плохое и против всего плохого. И она такая очень линейная, мне она показалась чрезвычайно неполной, растерянной.
Что касается «Великой криминальной революции», то вместо того чтобы увидеть эту реальность, он проиллюстрировал априори готовую концепцию. Сначала написал книгу, потом подснял под нее видеоряд, и это мне кажется ну точно так же как и с «Россией, которую мы потеряли», мне кажется, что это было авторским высказыванием, а не портретом эпохи.
Настоящий портрет эпохи — это «Десять негритят». Вот здесь я совершенно солидарен с теми, кто расценивает эту картину как самый большой говорухинский успех. Пожалуй, это лучшая роль Татьяны Друбич вне фильмов Сергея Соловьева.
«В чем смысл фильма Киры Муратовой «Вечное возвращение», не кажется ли вам, что женщины, посмотрев этот фильм, вообще перестанут иметь дело с безвольными инфантильными мужчинами». Леша, не в этом дело. Во-вторых, у Муратовой всегда форма превалирует, она идет от формы. И это фильм-опера. Она говорила постоянно, что она любит оперу именно за повторы. Я помню, как она мне в интервью говорила, она поет: «Светит луна, светит луна», он повторяет: «А также птички, а также птички». Вот в таком травестийном исполнении это было гомерически смешно. Но за этой формой она же показала еще и страшное количество повторов, которые есть в жизни. Вот здесь формы и содержания они абсолютно друг другу адекватные.
Вся жизнь — это повторение в разных версиях одних и тех же диалогов, диалогов унылых, тривиальных. Диалогов, когда путаются брат с братом, когда путают жен, когда повторяют одни и те же банальности и бестактности. Вот это вечное возвращение неразрешимых, именно поэтому повторяющихся ситуаций. Это еще и реакция на вечное возвращение русской истории. Понимаете, каждый фильм Муратовой, каждое ее название — это социальный диагноз. Безупречно точный. И «Короткие встречи», и «Долгие проводы», обернувшиеся долгими проводами эпохи. И «Перемена участи» 87-го года, и «Чувствительный милиционер», и уж конечно «Астенический синдром».
Но самое точное — это «Вечное возвращение», когда Россия вернулась на круги своя и от этого возвращения уже так тошнит, потому что все эти диалоги мы слушали не по одному разу. Вот о чем картина, но формально конечно это такое стилистическое упражнение очень дерзкое. А еще, конечно, это картина о том, что продюсерам русской жизни нет до нее никакого дела. «В советском фильме Владимира Аленикова «Непохожая» на классном собрании обсуждают старшеклассника, который издевается над малолетними учениками, вымогает у них деньги. Завучиха всеми силами пытается замять конфликт и представить это все неловким недоразумением.
Д.Быков: Человека формирует не зло и не добро, а чудо Почему она защищает этого негодяя». Она не негодяя защищает. Она защищает свой душевный мир, это картина Аленикова, она кстати не самая известная, да и не самая лучшая. Алеников вообще довольно сильный режиссер и мой довольно близкий приятель, я люблю его очень. Конечно, «Петров и Васечкин» гораздо более заметное произведение, но не в том дело.Фильм Аленикова он вписывается в поздний советский ряд, именно потому, что там огромная галерея учителей, которые ничего не могут сделать. Это Шарко в «Чужих письмах», не Купченко подчеркиваю. Купченко пытается влиять на ситуацию. А вот Шарко, которая повторяет про рудименты и атавизмы. Это училка и директриса в «Чучеле» у Быкова и беспомощная училка, которую Санаева там играет и которая совершенно не понимает происходящего, не может вторгнуться в трагедию, происходящую в классе. Это было совершенно очевидно. И вот здесь такая же.
Я плохо помню картину, даже можно сказать не помню вовсе. Если бы вы не написали, я бы ее не упомянул. Но дело в том, что это такая метафора советской власти, которая уже как старая училка в хулиганском бандитском классе еле-еле удерживает этот класс от каких-то чудовищных проявлений. А когда она уйдет из школы, как собственно ушла советская власть, бандитизм разгуляется абсолютно. Вот что это было. «Почему детей учат сначала говорить, а потом молчать. В каких случаях они не имеют права голоса». Они имеют право голоса в любом случае.
Я думаю, чем больше дети говорят, тем лучше. Потому что дети они имеют такую счастливую особенность — выбалтывать главное. Не зря говорят, что устами младенца глаголет истина. «Несмотря на то, что Булгаков изобразил Пилата харизматичного, талантливого, читатель относится к этому персонажу скорее с жалостью, что этот герой значит для автора». Андрей, очень понятно, что он значит.
Страшнейшим из пороков является трусость. А сила этого человека входит в страшное противоречие с его трусостью, с его метафизической недостаточностью, и он, прошедший через такие войны, через такие бои, знаменитый ратник, который действительно спас Марка Крысобоя и, пожалуй, душа его не меньше, а то и больше ожесточена. Он при словах об императоре Тиберии делает стойку и говорит, что нет, не было, не будет более великой власти.
Ну что там говорить. Это человек, выжженный изнутри и как выжженное дерево абсолютно неспособный ни к росту, ни к рефлексии, то есть попытки рефлексии у него есть, но он все время оправдывается, все: боги, боги мои, яду мне, яду. Понимаете, это такая слабость. Худшим из всех пороков является трусость. А вот Иешуа побеждает его по всем параметрам. Хотя, конечно Пилат весьма обаятельный человек. Особенно в сцене с Афранием, который замечательно показывает всю степень приязни Булгакова к тайной полиции. «Интересно, когда церковь сильна, люди идут в нее за чем угодно, из-за карьеры, денег, власти и тогда мы видим полный кризис духовенства.
То же самое было в дореволюционной России. То же и сейчас, при этом в советские времена и особенно во времена гонений на священнослужителей проявляются истинно духовные христиане. Неужели для церкви, чем хуже времена, тем лучше». Ну, Дима, это легче всего было бы так сказать. На самом деле, понимаете, я не специалист по религиозной истории, но у меня есть свои субъективные догадки.
Конечно, для христианства как раз самые тяжелые времена это христианство раннее, гонимое, которое защищается выработкой институтов, долгим отсеиванием ересей и еретиков. Как раз ранний первый период истории христианства, когда оно наиболее гонимо, это период и самый кризисный, и самый опасный. Это период самых опасных крайностей. Мне кажется, что только Апостол Павел сохранял в это время лучший церковный публицист всех времен и народов сохранял, как мне кажется некоторую трезвую самооценку. Очень многие кидались в ранний этот период чудовищной ереси. Гонения для церкви, как и для кого угодно, они совершенно не плодотворные.
Проблема в ином. Проблема в том, и вот это более сложная, более тонкая причина, проблема в том, что в советское время еще сохранялся, еще сохранял влияние и был количественно довольно богато представлен класс, который собственно и стал основой ранней советской интеллигенции. Потом сформировалась поздняя советская интеллигенция. Была интеллигенция, которую уже волновали вопросы веры, которую они интересовали, которую они, собственно говоря, формировали. И когда эта интеллигенция как сейчас исчезла, церковь превратилась в очередной партком. Я, кстати, слышал на «Диалогах», когда ездил в Питер встречаться с Эткиндом, спасибо, Солодников меня пригласил. Я слышал диалог Анны Даниловой с Георгием Митрофановым. И Георгий Митрофанов, замечательный богослов и великолепный представитель современной церкви и Анна Данилова с ее сайтом «Правмир» очень хороший публицист, тем не менее, я не скрыл от них обоих своего глубочайшего разочарования этими «Диалогом». Он весь представлял собой очень профессиональное, в духе Маргариты Симоньян не скажу зомбирование аудитории, но, конечно, заговаривание ее. Весь он состоял из готовых клише и из ухода от главных, самых больных вопросов современности. Хотя оба этих человека мне представляются очень достойными. Боюсь, что тут и аудитория во многих отношениях виновата.
Церковь часто не дает правильных ответов, потому что ей не задают серьезных вопросов. И проблема не в том, что церковь в советское время была гонима. Понимаете, гонимость она приводит иногда к ужасным крайностям. Ту гонимую церковь изнутри довольно точно живописал Владимир Кормер в романе «Наследство». Романе очень язвительном. Александр Архангельский в недавней книге «Бюро проверки». Я говорил о своих к ней претензиях. Но там есть и чем восхититься. Там замечательный есть такой эпизод, немножко, конечно, тошнотный, когда батюшка такой полуподпольный сначала сморкается в платок, а потом этим платком вытирает очки. От чего они только пачкаются. До известной степени такое же затмение зрения происходит в подполье со многими. Там батюшка этот, каждое слово которого воспринимают, как возвещание истины говорит чисто автоматически на автопилоте довольно много, прости господи, ерунды. И прекрасно понимает свой статус и пользуется им.
Церковь, когда она гонима, это состояние катакомбности, оно очень конечно духоподъемно, но и очень опасно. Поэтому говорить, будто в советское время в церкви были настоящие рыцари веры, а сейчас сплошь рыцари карьеры, это далеко не так. В советское время были такие персонажи как, например, Дмитрий Дудко. Вот если хотите, почитайте его и о нем. Фигура крайне неоднозначная, впоследствии духовник газеты «Завтра». Благословлявший Сталина от имени православного священства. Человек глубоко внутренне надломленный, но очень сильный проповедник. Я слышал его, кстати, живьем именно на выступлении в газете «День». Там было о чем поговорить.
В общем, к сожалению, человека формирует не зло и не добро, а чудо. И чудо личного соприкосновения с верой это очень важный момент. «Отец Федор появился у Ильфа и Петрова как часть антирелигиозной пропаганды. Каковы были вообще религиозные взгляды авторов «Двенадцати стульев»». Авторы «Двенадцати стульев» были атеистами, молодыми модернистами, людьми абсолютно советской закалки. Но проблема в том, что как пишет Петров в неоконченной книге «Мой друг Ильф»: «У нас не было убеждений, ирония заменяла нам убеждения». Это верно.
Кстати говоря, ирония — это такой христианский инструмент. В том числе она может быть и инструментом богопознания. Именно поэтому как помним, Христос открывается не искавшим его, вообще вера открывается не искавшим, это же цитата, собственно говоря, еще из Ветхого Завета. Поэтому мне кажется, что в «Остапе Бендере», в котором он говорит «я даже был однажды Иисусом Христом», есть такая своеобразная христианская жилка, христианская нота. При этом, конечно, Ильф и Петров сами себя не осознавали как верующие. И отец Федор это пародия на Достоевского. На его стиль, на его письма. Твой вечно муж Федя. И неслучайно они некоторые фельетоны печатали под псевдонимом Толстоевский.
«Поделитесь мнением о «Повелителе мух». Книга писалась как умозрительная хрестоматия толпе, у которой отказали тормоза. Ведь книга послевоенная с набором характерных типажей: энергичный лидер, безвольный умник, аутичный поэт, доминатор, обыватель садист. Ведь это шестеренки в безупречно иллюстративной машине. Подход для меня нестандартный, слишком подчиненный рассудку и слишком сознательный. Все-таки художественный образ первичен в книге, а потом уже он обрастает смыслом». «Повелитель мух» на самом деле действительно послевоенная книга, а не умозрительная.
Д.Быков: Мне источник духовной силы видится в интенсивном общении с единомышленниками Голдинг, он вообще немножко суховат и, конечно, такое пиршество фантазии как в упоминаемой вами книге Стругацких «Трудно быть Богом», такого изобилия амбивалентных деталей, такого избытка сложных мыслей вы у Голдинга не найдете. Он как писатель даром что нобелиат, он немного иллюстративен, у него есть, конечно, абсолютные шедевры, ну там, скажем, «Наследники», которых Михаил Успенский называл самой сложной фантастикой, даже не фантастикой, может быть самой сложной сказкой XX века. Он говорил, что надо три раза и перечитывать, чтобы хоть что-то понять. Ну и конечно «Шпиль», выдающееся произведение в замечательном переводе, насколько помню Хинкиса. Ну и «Повелитель мух», который тоже переведен, на мой взгляд, безупречно и сам по себе он довольно сложно и цветисто написан. Но, видите, у меня есть ощущение, что «Повелитель мух» он не то чтобы умозрителен, он слишком беспощаден. Слишком не милосерден, потому что ведь «Повелитель мух» по Голдингу, это еще и повелитель мира. Вот мир для него действительно вот таков. И можно понять эту мысль, собственно, я кстати помню очень хорошо, как на артековском кинофестивале у нас был ночной тайный просмотр «Повелителя мух». С чем это связано. Ну, там Елена Суриц перевод, вот я сейчас проверил. Она как переводчик всегда немножко старается (неразборчиво), но это, в конце концов, не портит. Голдинговскому стилю это мне кажется адекватно.Был этот ночной просмотр «Повелителя мух», потому что на артековском детском фестивале внезапно было сочтено, что показывать эту картину детям не следует. Мы в пресс-центре, журналисты и начальник этого пресс-центра Андрюша Давыдов на свой страх и риск отобрали самых умных детей и так называемых юнкоров, которые делали фестивальную газету «Остров А». Человек 50 их, наверное, было и мы набились в этот крошечный пресс-центр и вот так же я помню, как мы когда-то в школе Юного журналиста в 83-м году смотрели «Зеркало», копия которого была на журфаке. Вот, сидя друг на друге буквально. Тем не менее, это было одно из самых сильных моих впечатлений.
Вот также мы смотрели «Повелителя мух» бруковскую версию этой книги. Посмотрите этот фильм. Он довольно сильный, очень мрачный, сумрачный, там все время ударяет этот жуткий барабан судьбы. Но там понимаете, в чем гениальное прозрение Брука. Когда они входят на корабль, спасаются с острова, мы понимаем, что на корабле все то же самое. И во внешнем мире все то же самое. Это то же то, что сказала мне Вера Хитилова, царство ей небесное. Они ведь уезжают с одной турбазы волчьей на другую турбазу волчью. Так что мир «Повелителя мух», да, вот Голдинг так видел мир. Он отличался вообще крайним пессимизмом при взгляде на человечество. И поэтому, конечно, ждать от него той яркости и того богатства, что от Стругацких, нет, он писатель скорее аскетического склада.
«Перечитал впервые после школы повесть Пушкина «Гробовщик» и осознал, что совсем не понимаю ее. То, что мы говорили в школе, об этом произведении может…» Надя, я уже говорил об этом произведении. Это автобиография такая духовная. У Пушкина есть два произведения, в которых он фиксирует свое довольно скептическое отношение к роли поэта. С одной стороны поэт это полубог. Бежит он звуков и смятений полный, на берега пустынных волн, в широкошумные дубровы. С другой стороны: среди детей ничтожных мира, быть может всех ничтожней он. «Гробовщик» и «Скупой рыцарь» — это два автопортрета. Писатель — это гробовщик, окруженный тенями своих героев. Вот они все явились к нему, также и он. Он упаковывает их в книги как в гробы. Он их единственный по большому счету душеприказчик, наследник. Их коллекционер если угодно. Так что «Гробовщик» это писатель, окруженный тенями своих героев. Также и «Скупой рыцарь», который вместо того чтобы проводить юность в пирах, аскетически тратит ее на сбор вот этих чужих слез. Чужих сокровищ. Это образ поэта тоже. «Послушна мне, сильна моя держава». И Пушкин, там в чем амбивалентность «Маленьких трагедий» — Пушкин там отражен в двух ипостасях. Он и Альбер, он и вот этот его отец герцог страшный. То есть не герцог, а барон. Герцог там как раз пытается их примирить. Вот он барон, который вспоминает, как он буквально как душу истяжает из этих людей. И складывает ее в сундуки. Это два болдинских текста, в которых Пушкин подводит это к своей жизни, два автопортрета. Мы вернемся через три минуты.
НОВОСТИ
Д. Быков― Продолжаем разговор. «Прочел ваше стихотворение «Наше свято место отныне пусто». Это называется «Постэсхатологическое». Спасибо. «Что и кого вы представляете там выходящим из леса». Понимаете, «Постэсхатологическое» один из тех моих текстов, которой имеет совершенно отчетливые источники претекста и источники влияния. Там ну их два, один — совершенно очевидный, это «Руся». Она поднимала голову — Постой, что это? — Не бойся, это, верно, лягушка выползает на берег. Или еж в лесу… — А если козерог? — Какой козерог? — Я не знаю. Но ты только подумай: выходит из лесу какой-то козерог, стоит и смотрит. Божественный совершенно фрагмент, я очень его люблю.
И «Руся» вообще мой любимый рассказ. Наверное, любимый не только у Бунина. А второе это тоже на меня очень сильно тогда влиявший, вообще я когда прочел «Траву забвения» катаевскую, я долго ею просто бредил. И там приведены два стихотворения Николая Бурлюка, вот из всех Бурлюков Николай был самый талантливый. И самая страшная у него, конечно, судьба. Расстрелянный в Крыму гениальный молодой поэт. Он напечатал при жизни может быть 10 стихотворений, а уцелело их может ну 20. Но они гениальные все, вот мне кажется, что он как поэт был интереснее Хлебникова. Не буду выстраивать иерархии. Ну вот Катаев приводит в «Траве забвения» по памяти приводит и тогда же я запомнил вот это пленительное стихотворение там: « Легким вздохом, тихим шагом через сумрак смутных дней по полям и по оврагам бедной Родины моей, каждый вечер ходит кто-то, утомленный и больной. В голубых глаза дремота веет вещей теплотой. Он в плаще ночей высоком плещет, плещет на реке, оставляя ненароком след копыта на песке».
Вот отсюда там вижу след то ли пятки, то ли копыта. То ли птичьих, то ли человечьих лап и к опушке к темной воде болота, задевая листву, раздвинув траву, иногда из лесу выходит кто-то и недвижно смотрит, как я живу. Ну такой дух родины, который вышел наружу, который явился в зримом облике, когда все кончилось, когда вот такое постэсхатологическое наступило время и последний хранитель родины как хозяин острова в Матере выходит и смотрит. Во всяком случае, генезис образа был такой. Это я имел в виду. «Что для вас определяет ритора или трансляторов поэзии, чем эти медиаторы различаются. Кем были Блок, Эренбург, Блейк». Блейк совершенно очевидный транслятор, очень мало понимавший в том, что он транслирует.
Блок — откровенный транслятор абсолютно и он не может даже никак собственным даром управлять. Когда он начинает писать, себя заставляя, у него ничего не получается. Получаются такие стихи как скифы. Плохие просто или «Новая Америка», совершенно механические псевдомузыкальные повторы и очень примитивные мысли. У Блока же нет мыслей, «Вольные мысли» тоже слабый цикл. Хотя не самый слабый, «Ямбы» совсем слабый, безнадежный.
Блок не повествователь, его единственная повествовательная поэма — «Соловьиный сад». Она очень хорошо сделана, Блок не мог написать плохо. Но на фоне скажем «Ночной фиалки», она, конечно, проигрывает сильно. Поэт галлюцинаций, образов, снов, странных видений. А вот что касается Эрберга, которого Эрберга вы имеете в виду. Если Эренбург, то это совершенно явный транслятор, ритор и поэт риторического напряжения очень большого.
А вот насчет Эрберга надо мне смотреть. Я недостаточно знаю, о чем речь. Если бы Эренбург — вот тут есть о чем поговорить. «В чем кроме литературы, кино, музыки и религии вы видите источники духовной силы. И в частности для ребенка». Так напрашивается ответ — компьютерная игра. Но в этом я ничего не понимаю.
Мне источник духовной силы видится в интенсивном общении с единомышленниками. Необязательно с единомышленниками, но с умными и достойными людьми. Я кстати большую духовную силу обретаю, иногда выходя на митинги. Я вспомнил же, понимаете, я на митинги никогда не ходил. У меня этот период начался с огромным запозданием в 11-м году. На митинги перестроечный поры я не ходил, только три дня и три ночи провел у Белого дома. Но это было совсем другое дело. Так вот я иногда как журналист на них появлялся. Так вот я после первых митингов ноября 11-го года вспомнил, как мать моя впервые после моего возвращения из армии попробовала водку. То есть она пила до этого, конечно, коньяк как порядочный человек, или белое вино. Но водка в ее жизни случилась впервые. Я ее спросил: «Мама, какие ощущения». Она сказала: «Ты знаешь, кажется, я начинаю понимать, что в этом находят». Вот после митинга я впервые начал понимать, что в этом находят. И для меня это некоторый источник духовной силы. Хотя источник скоротечный. Когда я пишу стихи, я чувствую себя гораздо лучше, чем когда их читаю.
Д.Быков: Церковь часто не дает правильных ответов, потому что ей не задают серьезных вопросов «Я замечал, что в некоторых произведениях самые яркие сцены общения протагониста с явным чудовищем, воплощением зла. Например, беседа Шиндлера и Амона Гета в «Списке Шиндлера». Зачем художнику этот диалог человека и зверя». Андрей, ну это помните диалоги, скажем, Дориана с лордом Генри или скажем, Бэзила Холварда с лордом Генри. Он такой искуситель. Это восходит к вечной и очень часто случающейся идеи диалога с дьяволом. Диалога с чертом, который абсолютно у Томаса Манна так сказать списан с диалога Ивана Карамазова с чертом. Там ну просто сознательные заимствования иногда. Иногда сознательные, иногда думаю, бессознательные. Они составляют две трети этого разговора. Диалог с дьяволом – диалог с искусителем, это очень распространенный прием. Иногда считается, я, по крайней мере, пока не видел, но считается, что в последнем фильме фон Триера «Дом, который построил Джек», тоже очень много этого добра.«Можно ли провести параллель между купринским «Подпоручиком Ромашовым» и Пьером Безуховым. Если представить, что последний решил бы сделать военную карьеру». Игорь, ничего общего. Кроме очков. Дело в том, что Ромашов, то, что Эткинд называет «слабый человек культуры», в Пьере никакой слабости нет. Пьер это наоборот сверхчеловек. Но именно потому, что в нем все человеческие качества выражены с предельной ясностью. Пьер это на личном, на таком дворянском уровне повествования зеркало Кутузова. А Кутузов, конечно, с Ромашовым не имеет ничего общего. С Ромашовым нечто общее имеет может быть Тушин, тихий капитан Тушин. И то Тушин профессионал, а Ромашов профессионал только в литературе. А военным он не мог бы быть никогда.
«Что это за разговор у вас был в открытой библиотеке. Почему такой невнятный. Такое ощущение что все участники Александр, Николай и вы на солнцепеке питерском перегрелись. Главным образом из беседы о сопротивлении можно вывести следующее: бурчите себе под нос, пока они там все не…» Кролик, дорогой, я вам советую в таких случаях внимательно, вдумчиво переслушать диалог. Там может быть со звуком что-то не так. Но вот я же там был и слышал, там очень много дельного сказала Эткинд с позиции макроистории. Думается кое-что занятное для себя, во всяком случае, сказал я. И вообще, если вы чего-то не поняли, надо как-то вернуться к этому, может быть, в тот момент, когда у вас биоритмы лучше будут работать. И вы будете больше что ли открыты сторонней информации. Будете более умно ее осмыслять. Когда Фолкнера спросили, простите за аналогию, спросили Фолкнера: я ничего не понял в «Шуме ярости», хотя прочел ее три раза, что мне делать. «Прочитайте четвертый». Переслушайте. Эткинд стоит того, про себя я не говорю, Эткинд стоит того, чтобы вдумчиво его слушать. И читать, конечно.
«Что вы думаете о трактовке «Му-Му» как неудачной попытке немого обрести язык, а собака символ этого языка». Не языка, это символ души. Если бы только язык. То, что он глухонемой, это очень важно. Потому что все, что он может сказать это му-му. А что, какой смысл вкладывается в «му-му», это универсальное слово, обозначающее все самое дорогое. Он когда не топит, он топит не речь, он топит душу, и только после утраты души он может стать свободным. Все герои Тургенева это его инвариант, все герои Тургенева сталкиваются с этой деталью и сталкиваются с этим этапом. Берсенев, Шубин в «Накануне». Лаврецкий в «Дворянском гнезде». Базаров, безусловно. Стать человеком можно только ценой уничтожения части своего «я», становление всегда жертва. И я сжег то, чему поклонялся, поклонялся всему, что сжигал. Это из «Дворянского гнезда». Насколько я помню. Так что Му-Му это именно символ этой неясной темной внутренней сущности. Если угодно – совести. Потому что пока есть у человека совесть, он свободы обрести не может. В телепередаче «Школа злословия» во время встречи с Б. Г. произошел буквально следующий диалог. «Боря, ты сказал, что Веллер это пошлятина». Борис Гребенщиков: «Да». Дуня Смирнова, согласились и приятно обрадовались. Татьяна Толстая: «Наконец-то это сказано».
«Вы говорите, что у вас с Борисом Борисовичем схожесть взглядов практически во всем. Как можете объяснить это его высказывание». Иногда под горячую руку Борис Борисович может сказать о ком-то, что это пошлятина и обратите внимание, о ком бы он это ни сказал, это будет верно. А я вот скажу, что «Школа злословия» это пошлятина. Или там что, допустим, многие высказывания Татьяны Толстой и некоторые аспекты ее публичного имиджа тоже подпадают под это определение. А кто-то это скажет обо мне и будет прав.
О ком угодно скажи «пошлятина» и будет верно. Просто проблема в том, что говорить о чем-либо «пошлятина» это гораздо более пошлятина, чем любая другая пошлятина. Я думаю это элементарно. На самом деле пошлость, по-моему, это все, что человек делает для чужой оценки. Все, что он делает не по внутреннему побуждению, а чтобы как-то выглядеть со стороны. Пошлость — это позиционирование себя. Ну и конечно это несоответствие высокой самооценки и низких дарований. Такое случается сплошь и рядом.
Сказать это про Веллера нельзя никак, потому что Веллер, как раз в нем надутости нет совершенно, он умеет подставиться, умеет сказать заведомо провокативную полемичную вещь. Умеет насмешничать и над собой, а не только над другими. А можно сказать, что Пелевин пошлятина. А можно, что Сорокин пошлятина. Это про всех сказать можно. Но зачем? Вот я не понимаю. Для того чтобы как-то блеснуть на этом фоне. «Школа злословия» на самом деле никакой школой злословия не была. Это было нападение на всех, кого Смирнова и Толстая считали конкурентами и некоторое подобострастие перед всеми, кто мог быть им как-то интересен и полезен. Вот тут, поэтому я эту программу не любил именно за разность подхода. А что касается самой, скажем, Татьяны Толстой, она тоже иногда замечательно подставляется и вызывает у меня глубокую симпатию.
А Дуня Смирнова вообще замечательный сценарист. Оказалось. Мне кажется, что и «Связь», и в особенности «История одного назначения» это выдающиеся художественные результаты. Лекция о Говорухине, говорил уже. «Почему Татьяна полюбила Онегина в деревне — ясно. Отсутствие других мужчин, романтические фантазии. Но, встретившись с ним Петербурге, она говорит: «Я вас люблю к чему лукавить». Здесь-то почему, неужели снова романтические фантазии или она была просто глупа». Я не знаю, была ли она умна. Но Татьяна такой тоже духовный автопортрет Пушкина, который отличался крайним постоянством. Она и есть такой символ постоянства. Пушкин же достаточно перечесть его стихотворение на смерть Ризнич или его позднее «Письмо к Воронцовой», он всегда очень нежно помнил, очень глубоко помнил людей, оставивших след в его жизни. И Татьяна, когда она говорит «я вас люблю, к чему лукавить», кстати, одно из средств добить Онегина, если на то пошло. Но конечно она его любит. Но понимаете, ведь человек влюбляется независимо от ума. Чацкий очень умен, но он влюблен в Софью. Кстати, влюблен с детства. А сколько раз все мы, люди неглупые, разумеется, дураки же нас не слушают, сколько раз все мы влюблялись в существо, совершенно этого недостойное. Понимаете, пораженный замечанием я подумал, ах, Маланья, как мы часто детски любим недостойное внимания. Это мог бы сказать не только Козьма Прутков, а и Алеников, и Заболоцкий и любой обэриут. Это вполне такая лирическая обэриутская нота. Понятно же что мы, кстати, первым обэриутом, конечно, был Жемчужников и возможно Алексей Толстой Константинович. В том-то и дело, что мы детски любим недостойных внимания. И Татьяна здесь совершенно не исключение. «Насколько важно для автора и его окружения отзыв на его произведение или возможно творчество в изоляции». Ну, знаете, я потому так и жду публикации Сэлинджера, что для меня вот это будет ответ еще на очень важный вопрос.
Возможно ли действительно творчество в изоляции. С моей точки зрения это серьезное обеднение жизни. Но есть люди, которые вот становятся с годами такими аутистами. Может быть потому что, как я уже гов
echo.msk.ru
Дмитрий Быков — Один — Эхо Москвы, 31.08.2018
Д.Быков― Привет, дорогие друзья! Доброй ночи, полуночнички! Мы сегодня опять с вами в студии напрямую. Вопросов очень много. Простите сразу все за то, что какие-то из них я просто буду вынужден пропустить. Тема лекции, по общему консенсусу – Чапек, как и было обещано. И просят немножко договорить про «Bend Sinister», про причины относительной малоизвестности этого набоковского романа. Да, ближе к второй или третьей четверти эфира я про него, вероятно, поговорю. Пока начинаю отвечать на многочисленные вопросы.
«В русской литературе весьма популярные герои – цыгане. Чем привлекают писателя эти персонажи?» Андрей, это довольно очевидно. Цыганская тема во всем мире, во всей литературе, достаточно вспомнить «Цыганская дочь за любимым в ночь…» Киплинга, «The Gipsy Tail» Киплинга, – цыганских замечательных сюжетов в мировой прозе. Я думаю, что образ романических бродяг, неясное происхождение, таинственный народ, вечное, хатифнаттовское, я бы сказал, бездомье. И плюс к этому, конечно, традиции цыганской музыки, которые до такой степени влияли всегда на умы. Единственное, что, на мой взгляд, недостаточно освещена тема геноцида цыган во Второй Мировой. Она есть у Шварца в «Драконе» так парадоксально – ясно, что евреи имеются в виду.
Я встречал несколько романов о массовом уничтожении цыган во время Второй мировой войны. Конечно, эта тема не так значима и не так масштабна, просто потому, что это, все-таки не 6 миллионов. И не было такого последовательного решения цыганского вопроса, как темы Холокоста, но в России об этом, по-моему, вообще написано удивительно мало. А так, скажем, в британском фильме «Переход» эта тема весьма наглядна. Конечно, лучшее, что написано о цыганах, на мой вкус, – это песни Новеллы Матвеевой, «За цыганами» и «Цыганка-молдаванка», которые сама она ставила весьма высоко.
«Прочитал «Фиаско» Лема. Расскажите о вашем отношении к роману?» Думаю, что из позднего Лема, наряду с «Гласом Господа» это самое значительное произведение. «Было ли финальное отношение землян в отношении Квинты всего лишь актом проявления бессилия и злобы?» Нет, это то же, что и поведение, скажем, Каммерера и Экселенса относительно Льва Абалкина. Инстинкт самосохранения в землянах, инстинкт ксенофобного страха гораздо сильнее, чем интерес, любопытство. Понимаете, в «Кукушках Мидвича» у Джона Уиндема я совершенно не убежден, что эти прекрасные золотоволосые или серебряноглазые инопланетяне с их даром телепатии так уж угрожали человечеству. Может быть, они были в каком-то отношении лучше человечества. Но для человечества лишь бы свое: условно говоря, «хай гiрше, али iнше», как говорят в Киеве, а здесь – «хай гiрше, али свое». Поэтому здесь уничтожить чужого просто потому, что он чужой – это один из первых рефлексов, и Лем не питал на эту тему никаких иллюзий.
«Как вы думаете, зачем Лем оставил неопределенность в личности возрожденного в мигермезисе главного героя, был ли это Пиркс или Парвис, и имеет ли значение этот сюжетный ход?» Так же и Стругацкие оставили в «Жуке» некоторую непроясненность относительно того, что произошло с Абалкиным на Саракаше. Вообще, у Лема в «Эдеме», если вы помните, инженер рассматривает один элемент инопланетной конструкции и говорит: «Я чувствую интуитивно, своим инженерным чутьем, что внутри этого элемента имеется разомкнутая цепь. Я ее не вижу, но я ее чувствую. Это как бы в романе находится автоописание, отсюда же «метод сожженных мостиков», который применяется и Лемом, и Стругацкими – не все обязательно прояснять до конца. Роман до конца не прояснен. И этот элемент неопределенности, условно говоря, разомкнутая конструкция, придает всем лемовским вещам – точно так же мы не получаем объяснения происходящему в «Расследовании» – объем, такую внутреннюю тень своего рода.
«Такой жанр, как современная отечественная юмористическая проза, на мой взгляд, переживает упадок. Последний раз смеялся над «Легендами» Веллера». Я тоже вслух над ними хохотал. «Посоветуйте достойных авторов».
Прежде всего, Леонид Каганов. Но Леонид Каганов известен более как фантаст, но он превосходный юморист, сатирик, – это всегда смешно, что бы он ни писал. Евгений Шестаков, безусловно. Шендерович совсем не юморист, но это тоже бывает очень смешно. Просто он, действительно, «питая ненавистью грудь, уста вооружив сатирой, проходит свой тернистый путь с своей карающею лирой». Конечно, к юмору его сводить нельзя. Вот Шестаков – он безоблачнее, веселее, хотя тоже довольно ядовитый персонаж.
«Как вы относитесь к творчеству Андрея Лазарчука и Святослава Логинова?» Они еще и друзья мои, причем Лазарчук – один из ближайших, поэтому что же мне говорить о моем отношении к творчеству? И Логинов прекрасный писатель, и Лазарчук – один из крупнейших современных прозаиков, достаточно вспомнить «Брата Иешуа» или «Опоздавших к лету», которые сейчас только что вышли таким прекрасным полным изданием. Нет, это два очень крупных писателя без всяких скидок на принадлежность к так называемому «фантастическому гетто», как его иногда пренебрежительно называют сами фантасты. Никакого гетто давно нет, фантастика стала мейнстримом, и среди работающих сегодня прозаиков Логинов, Лукин, Лазарчук сегодня, безусловно, занимают первые ряды.
«Почему вы считаете Беляева писателем второго ряда?» Почитайте Беляева. Все-таки Беляев по своей языковой ткани писатель достаточно примитивный, достаточно суконный. У него есть блестящие сюжетные находки. Но в целом очень много наивных построений, очень предсказуемые фабулы. У него есть довольно много такой наивной напыщенности, которую мы ценили в то время. Она есть и у Трублаини в «Шхуне «Колумб», у всех фантастов и приключенцев 20-х-30-х годов. Тем не менее, это глоток кислорода в тогдашней литературе. У Белева есть вещи, написанные чуть получше, как, скажем, «Голова профессора Доуэлля», и похожи, как, скажем, «Человек-амфибия», но это все равно прекрасный, трогательный писатель, и мужественный человек, всю жизнь боровшийся с болезнью. Так что здесь, я думаю, не так важно, как он писал, а важно, что он воспитывал.
«Почему в фильме Абуладзе «Покаяние» персонаж Варлама Аравидзе – сначала очень обаятельный, харизматичный – а до конца этот герой похож на фанатичного богоборца? Зачем режиссеру нужен этот мотив?» Нет, он не обаятельный совершенно. Это такое бандитское обаяние. Как говорил Аксенов о Берии, который, конечно, здесь рисуночно имеется в виду, «Берия был обаятельный бандит в своем роде». Но думаю, что обаяние его преувеличено. Варлам – совсем не богоборец. Варлам – совершенно энигматичная фигура, с ужасной пустотой внутри. НО там не забывайте, что Аравидзе – никто, «Никтодзе», вот это все время подчеркивается.
«Дмитрий, вы совершенно не понимаете Докинза». Вот мне такие письма нравятся и такие вопросы. Килаврик – прелестный постоянный слушатель, но на такие заявления – «вы совершенно не понимаете чего-то» – хочется возразить: «А вы понимаете. А вы понимаете все». Вы избегайте таких вещей, все-таки. Я кое-что на свете понимаю. И если я говорю так о Докинзе, наверное, у меня есть какие-то причины. Вот вы говорите: «Атеист не может любить или ненавидеть бога, потому как он в него просто не верит». Так я и не говорю, что он испытывает к богу ненависть как таковую. Ему просто хочется, чтоб бога не было. Это не ненависть, назовите это другой эмоцией, можно это обозначить точнее. Но верующие вызывают у него личную неприязнь. Это чувствуется в книге, чувствуется интонационно. Его раздражает идея бога, и как-то он злорадствует, как мне кажется при всяком очередном доказательстве, что бога нет.
Ну хорошо тебе без бога – ладно, хорошо, но зачем тебе при этом ненавидеть или презирать тех, для кого он есть. Не просто же он кому-то нужен по нищете их духовной, нет! Просто хотят, чтобы был. А вот ты хочешь, чтобы не было. Ну и чем ты лучше? Ничем, абсолютно. Наука – прекрасная вещь, но наука никоим образом не исключает божественного замысла. Это вопрос, совершенно не предопределенный никаким научным воззрением. Иное дело, что он воюет с креационистами. Но у креационистов есть на это совершенно универсальная отмазка, очень удобная: «А может быть, Господь создал эволюцию?» Мне в книге Докинза не нравится именно злорадный тон, и этот тон там есть. Вы можете его не слышать, вы можете считать, что это аберрация моего восприятия – я этого не исключаю, – но это есть. Вы говорите: «Нет нигде в книге его личного отношения к богу». Может быть, личного нет, поскольку нет личного бога, но личное отношение к религии и к религиозным читателям есть безусловно.
«Почему, по-вашему, Солженицын – такая фигура в России, которую либо ненавидят всей душой, либо обожают? Почему так много людей считают его предателем?» Нет, они не считают его предателем. Они повторяют чужую клевету, которой относительно Солженицын было очень много, еще в книге Ржезача «Спираль измены Солженицына» наворочена масса этого вранья. А почему он вызывает такое полярное отношение? Для меня всегда масштаб человека, его значимость напрямую увязан с интенсивностью эмоций, которые он вызывает. Мне кажется, что если человек вызывает любовь одних и ненависть других, – это свидетельствует всего лишь о его значительности. Если он вызывает всеобщую любовь – он, скорее всего, как-то тайно льстит человечеству, и говорит что-то слишком бесспорное. Все значимое – спорно, полемично.
Солженицын, как раз избежал риска засахаривания, которым у нас, так или иначе, губят многих значительных людей. Скажем, вот Сахаров. Он перестал вызывать, как мне кажется, полемику, и вообще ушел с переднего плана современных дискуссий. Это очень обидно, потому что многие идеи Сахарова, скажем, идея конвергенции, они дискуссионны, и они заслуживают обсуждения. Понимаете, когда говорят: «Сахаров не понимал», «Сахаров недооценивал»… Не самый глупый был человек! Если он достиг чего-то в своей области, это заставляет верить, что, может быть, и его политические суждения были не так наивны, не так дальнозорки, как некоторые считают. Есть о чем разговаривать, в любом случае.
Сахаров, мне кажется, подвергся в 90-е определенному засахариванию, и сейчас «Размышления о мире, прогрессе и интеллектуальной свободе» не перечитываются регулярно. Это ошибка. Солженицын продолжает вызывать полемику, потому что слишком масштабные им сделаны открытия и фигуры, на которые он напал. Причем, мне кажется, происходит некая недооценка Солженицына как писателя. Сильнее всего Солженицын вырастает по мере вырастания его оппонента. Я говорил уже о том, что, когда он полемизирует с системой, он, конечно, значительный писатель, но когда полемизирует со смертью, как происходит в «Раковом корпусе» – он писатель великий. «Раковый корпус» – пожалуй, единственная его вещь, где есть замах, и вполне обоснованный, на философские обобщения. И это лучшее, что он написал, просто лучшее стилистически. Мне кажется, здесь есть, о чем говорить. Хотя есть выдающиеся куски и в «Августе четырнадцатого», и в «Марте шестнадцатого», а дальше их обнаруживать становится все труднее. Лучшее, что он написал в поздних частях, в поздних «узлах» «Колеса» – это «Ленин в Цюрихе», потому что там сильна внутренняя линия. Там – проза, настоящая. И это один из самых убедительных Лениных, написанных в России. Во всяком случае, более убедительный, чем у Алданова, как мне кажется, в «Самоубийстве».
Д.Быков: Ну хорошо тебе без бога – ладно, но зачем при этом ненавидеть или презирать тех, для кого он естьСолженицын именно потому вызывает такую полемику, что советская власть еще очень сильна в умах. Но интересен он не тогда, когда ниспровергает советскую власть или рассказывает о ее преступлениях, а тогда, когда предлагает свою позитивную программу, например, пытается реабилитировать земства. Довольно остроумно, конечно, и в этом есть большой потенциал. Вот я с удивлением отметил, что среди 14-15-летних детей, пришедших ко мне на лекторий (последние пять дней мы его проводили), число сторонников земства, поклонников идеи самоуправления местного, очень велико. И это им интересно по-настоящему. По-моему, это тот путь, который еще не был опробован. На примере судьбы нашего дачного кооператива могу вам сказать, что это очень помогает выявлению талантов.
«Расскажите, как сделать программу для краткого учебного курса по литературе. Я уже закончил школу и заметил, что школьникам неясно, почему они начинают с тех или иных произведений. Это никак не объясняется. Мои младшие сестры хотели, чтобы я им рассказал об истории литературы (я на 4-м курсе гумфакультета), но мне неясно, с чего начать, и как излагать материал последовательно».
Видите, дорогой друг. Ваша проблема – это общая проблема современного гуманитарного знания, прежде всего – в России. Потому что социологическая схема, марксистская схема на 90 процентов исчезла, скомпрометирована, а другая не предложена. И все попытки заменить марксизм структурализмом, по большому счету, ни к чему не привели. Я думаю, что программу следовало бы расширить и перекроить определенным образом, включить туда таких авторов, как, скажем, Успенских оба, и Глеб, и Николай. Гораздо шире представить Щедрина. Гораздо скупее представить, например, Толстого, потому что Толстой не понятен еще, как мне кажется. И «Война и мир» не понятна, слишком масштабное высказывание для 10-го класса. А вот включить толстовские рассказы и повести, в особенности поздние, например, «Фальшивый купон», – почему бы и нет? Или «Отца Сергия», или «Посмертные записки Федора Кузьмича». Есть о чем говорить.
Мне кажется, что единственный способ как-то системно давать литературу – это подход с точки зрения эволюции жанров. Развитие русского романа, движение маргинальных жанров в мейнстрим, – теория Шкловского и Тынянова. Вот немножко посмотреть это. Борьбу модерна и архаики в литературе, – с этой точки зрения ее рассматривать, а не с социологической. Потому что исторический подход имеет все права быть, но он один не объясняет ее динамику. А вот почему Толстому понадобилось так написать «Войну и мир», почему такая романная форма, взятая им у «Отверженных», оказалась им востребована? Почему «Анна Каренина» – это роман, построенный принципиально иначе, и что такое свободный роман, если привлечь книгу Иванова «Даль свободного романа». То есть посмотреть на дело не с точки зрения эволюции социальной, а с точки зрения эволюции жанровой. И немножко, конечно, привлечь сюда связь с историей России, с ее циклическим повторением, и так далее.
«С грядущим профессиональным праздником». Я вас тоже поздравляю, хотя далеко еще не 1-е сентября, а линейки в большинстве школ вообще пройдут 3-го. Но все-таки дорогих коллег, учителей я не могу не поздравить, и рад за вас, ребята. Потому что все равно, лучшая работа – наша, потому что мы всегда с молодыми, потому что школа – это наш экстремальный спорт и наш ионный душ. И вообще прекрасно, что кончается лето. Потому что теперь его можно опять ждать. Не ждать с тоской наступления осени, а с радостью ждать весны. Это очень приятно.
«Отвечая на вопрос о возможности мужской эволюции Бенджамина Баттона – имеется в виду фильм Финчера и рассказ Фитцджеральда, – вы выразились в том смысле, что дети изначально более взрослые, и с возрастом у них что-то умирает и усыхает. В этом отношении в чем вы видите цель вашей педагогической деятельности: способствовать дальнейшей усушке этих взрослых черт, или стараться их сохранить на максимально долгую жизнь?»
Юра, очень хороший вопрос. Конечно, сохранять. Это три детские черты, которые мне кажутся наиболее важными. Во-первых, свежесть переживания – не дать замылиться взгляду. С годами мы утрачиваем, конечно, свежесть и силу чувства. Приходит страшнейшая амортизация, как по Маяковскому, «амортизация сердца и души», прежде всего – амортизация слуха, зрения, восприятия. Сохранить эту свежесть. Во-вторых, масштаб. Ребенок маленький, для него все происходящее огромно, как для муравья. Огромное первое предательство, первая дружба, первая любовь. Надо, конечно, любой ценой сохранять масштаб. Не терять значительности происходящего, величия замысла. И третья детская черта, которая очень важна – это первостатейный интерес к главным вопросам жизни. Интерес не к бабкам и не здоровью, а к любви, к смерти, к смыслу жизни, – то есть интересоваться главными вещами, вот что, мне кажется, надо в ребенке всячески беречь. Я стараюсь, чтобы ребенок дольше сохранял свои лучшие детские черты. Я вообще считаю, что дети во многих отношениях интеллектуальнее нас.
Вот тут, кстати, спрашивают мои отношения от этого четырехдневного подросткового курса. У меня никогда не было такого большого курса, и никогда на нем не было столько народу. Впечатления очень трудно сформулировать. Я потрясен, осчастливлен, испуган, смят. Я не ожидал от них таких знаний, не ожидал такой способности к полемике, такой глубины вопросов, на которые мне все труднее отвечать, и такого опережающего развития. Это не элитные дети, это дети из абсолютно простых московских школ, не лицейские. Они страшно продвинуты во всех отношениях – физическом, рискну сказать, в духовном. У меня никогда не было курса, который целиком состоит из «12+», 12-14 лет. Должен вам сказать, что 17-летние, которых я знаю, они уже по сравнению с ними отстают. За счет чего произошел такой рывок и такая скорость – не знаю, ничего вокруг себя не вижу, что бы этому способствовало.
Вы знаете, когда я считаю тексты песен, скажем, Лизы Монеточки, я тоже поражаюсь ее взрослости. Это ранняя зрелость настоящая. Не то что она на кого-то косит, конечно, она поэт гораздо сильнее Земфиры, простите меня все. У Земфиры никогда не было амбиций быть поэтом, а у Лизы они есть. Так что некоторая степень восторга и подавленности. Подавленности – потому, что мне трудно им соответствовать. Я специально затеял с этими детьми уже бесплатный для них и для меня курс, который я условно назвал «Быков и дети». Нам не хочется с ними расставаться. Мы договорились раз в две недели собираться и обсуждать новинки уже нынешней литературы. Возможно, мы будем это транслировать, возможно – нет, это зависит от технических возможностей «Прямой речи». Но я намерен как-то с детьми видаться просто в надежде, что ли, как-то выйти на их темпы. Потому что мне уже удерживать себя в их темпе довольно сложно.
Они, правда, доброжелательные, в них нет высокомерия, но мое впечатление обратно баневскому. Помните, Виктор Банев в «Гадких лебедях» говорит: «Подумаешь, вы ведь всего только дети. Да, умные, развитые, но только дети». А сейчас я по их реакциям с некоторым ужасом говорю: «Да ведь вы взрослые». Понимаете? То, что в наших семьях произрастают взрослые…Я вчера получил от сынка из Грузии – он гостил там, вот сейчас вернулся – получил от него письмо. И читая это письмо, я поразился: я бы лет в 35 такое написал. А ему 20. Сложные ощущения.
«Думаю, вы не будете отрицать тезис о рефлексии умов через искусство. Иногда эта рефлексия носит характер директивный. Лет 25 назад был объявлен творческий конкурс, целью которого было создание положительного образа правоохранителя. Результатом стали «Улицы разбитых фонарей», «Опера», «Тайны следствия», «Агент», и так далее. Если работа милиции и прокуратуры нашла отклик у массы, то деятельность людей с холодной головой и горячим сердцем их не заинтересовала. В ближайшую пятилетку число ментовских и прокурорских сериалов дойдет до 20, а то и превысит. Этого не скажешь о чекистах. Такое развитие событий связано, вероятно, с прозрачностью ведомств. А может быть, с отторжением в массовом сознании их результатов. Андрей».
Андрей, мне представляется, что мода на чекистов – я сейчас о ней писал применительно к Оруэллу, вообще мне кажется, эта статья в последнем «Дилетанте» занятная, вы проглядите ее. Там то, что Оруэлл в последние годы неожиданно, хотя на самом деле глубоко логично, донес на коммунистов; то, что у Булгакова в образе Афрания виден некоторый оммаж силовикам, – это довольно распространенное заблуждение двадцатого столетия. Как и чекистский крюк, о котором писал Черкесов, у нас вообще об этом много говорят. Ну вот вам, «Спящие», совсем недавний сериал.
Чекисты в массовом сознании обрастают многими совершенствами. Многими довлеет миф об их бескорыстии, многие любят веру в их интеллектуальность. Вот Андропова считали интеллектуалом, и якобы он окружал себя интеллектуалами. Нет, напротив, миф о чекистах очень крепок и живуч, а начался он в 30-е годы, а еще и в 20-е. Помните, Лиля Брик говорила Сарнову: «Для нас они были святые». Святые люди. И поэтому Агранова довольно бескорыстно звали в этот салон. Он мог, конечно, помочь, но он привлекал их как новый человек, человек нового типа. В Дзержинском видели такого современного святого, и так далее. А что это сейчас – пока еще не воплотилось. Кстати говоря, это воплощал усердно Юлиан Семенов, непосредственно по их заказу сочиняя «ТАСС уполномочен заявить» и прочие фальшивки, которыми он, конечно, не будет памятен. Не забывайте, что и Штирлиц делался по тому же заказу.
Д.Быков: Если человек вызывает любовь одних и ненависть других, – это свидетельствует о его значительностиНаоборот, сейчас мы на пороге этой моды на чекизм, потому что среди интеллектуалов, как ни странно, живет вера в необходимость тайной полиции. Потому что каждый интеллектуал хочет быть элитой, а тайная полиция, которая держит в руках все нити, все рычаги, – она элита по определению. Очень многие россияне желали бы к этой элите принадлежать и желали бы рулить духовной жизнью сограждан. Даже самые отъявленные демократы хотели бы, возможно, чтобы их допускали к управлению мыслительными процессами. Они верят, что ими можно управлять. Так что вопрос в точку – мы скоро увидим массу сериалов об интеллектуальной полиции, о полиции, которая борется с экстремистами, о полиции умов и нравов и, более того, о благости цензуры. Я думаю, что это – один из трендов ближайшего десятилетия, который заставит забыть про «Улицы разбитых фонарей». Вернемся через три минуты.
[РЕКЛАМА]
Д.Быков― Здравствуйте еще раз, кто подключается к разговору, продолжаем.
«В бытность свою в Волгограде вы рассказывали о проекте издавать советские книги с комментариями. Что с этим проектом?» Понятия не имею, знаю, что недавно этот проект был как бы реанимирован, и начали в одном издательстве – я не буду его называть – искать автора на комментарий к «Понедельнику начинается в субботу», но кроме Михаила Успенского, царствие ему небесное, я не могу представить человека, который мог бы на должном уровне это сделать. Может быть, Лукин.
Я помню, что Владимир Воронов писал комментарий к «17 мгновениям весны» – тогда застопорилась серия, ее не напечатали. Но я абсолютно убежден, что рано или поздно такой проект запустится. Может быть, когда я доживу до какой-нибудь синекуры издательской и сам стану редактором такого проекта.
«Прошла «Ночь кино». Как вам видится связь литературы и кино в будущем?» Олег, я думаю, это будет такой рост числа мегапроектов, когда выходит одновременно фильм, звуковая дорожка, книга – новеллизация. То есть что-то, что произошло с «Голодными играми», но более масштабно и более качественно. Я абсолютно убежден, что новеллизация фильмов – это очень перспективный жанр, а в дальнейшем это будет такой мультимедийный мегапроект, затрагивающий все сферы жизни: сериал, литературу, кинематограф, музыку, и так далее. Это оптимальная для меня форма существования литературы. Сейчас, когда я в муках пишу сценарий по «Эвакуатору», очень сложно, чтобы герои меньше разговаривали, а больше действовали, а никому другому я доверить это, конечно, не могу. Я с ужасом думаю, что все-таки литература и сценарий – это очень разные жанры. Именно поэтому сценарии Луцика и Саморядова только сегодня, на мой взгляд, при некотором развитии киноязыка, могут претендовать на адекватное воплощение. Но это очень долгая и трудная работа – создать адекватный изображению литературный язык. И, соответственно, ничего не поделаешь, как литература «Голодные игры» не выдерживают абсолютно никакой критики. Видимо, нужно будет искать какие-то новые средства, может быть, те, к которым прибегает Данилевский в «Familiar», где какие-то визуальные эффекты появляются в книге как таковой. Не знаю, это надо думать. Все-таки, литература и кино говорят на разных языках пока.
«Почему вы называете 1-е сентября днем свободы?» Потому что сказано в одной знаменитой книге, которую вы узнаете конечно: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ничто, кроме истины свободными нас не сделает. Вы спросите: «А как это соотносится с вашей концепцией бога?» А концепция бога никак не противоречит познанию. Бог не мешает познанию и не препятствует познавать. А церковники отдельные препятствуют, но их мнение можно, в конце концов, игнорировать.
«В чем ценность пелевинской «Желтой стрелы»?» Она помогает, на мой взгляд, хорошо разомкнуть тот круг, по котором ездит этот поезд. Больше того, сойти с этого поезда. А никак без искусства вы с этого поезда не сойдете. Потому что, как у Житинского в рассказе «Стрелочник», вы можете вместо этой железной дороги соорудить свою. Как бы игрушечную, но более сложную.
«Прочтите что-нибудь из стихов Асадова на ваш выбор. Исполняется 95 лет Эдуарду Асадову».
Не хотел, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился,
И в Советском Союзе умру!
При этом я не люблю Асадова-поэта. Но я чту Асадова-поэта, я признаю его необходимость.
«Феномен Юлии Латыниной. Кто она для вас прежде всего: мыслитель, публицист или писатель?» Писатель прежде всего, потому что это включает в себя и все остальное. Неинтересно писать, если ты не думаешь, неинтересно читать, если нет философской подоплеки. Для меня Латынина – крупный интересный писатель. Людей, которые относятся к ней пренебрежительно, я тоже предпочитаю игнорировать, потому что эти люди не знают и не умеют десятой доли того, что знает и умеет она.
Тут, кстати, недавно был день рождения Александра Эткинда, моего, наверное, любимого современного филолога и писателя. Многие пишут, что Эткинд сомнителен в фактографическом отношении. Выискивать у Эткинда фактические ошибки любителей очень много, особенно из таких частных, незначительных, узких сфер, в которых эти люди чувствуют себя победителями. Они могут судить, что называется, не выше сапога. Но, во-первых, Эткинду очень часто приписываются фактические ошибки. У нас полно людей, которые не понимают прочитанного и на этом основании ложно интерпретируют написанное. Не будем называть имен, просто потому, что много чести. У Эткинда есть главное – есть драйв мысли, есть очень глубокие знания и замечательные обобщения. Люди же, которые его критикуют, обычно не сделали в науке десятой, двадцатой доли того, что сделал Эткинд. А многочисленные претензии такого рода имеют совершенно отчетливую цель: дезавуировать масштабные исследования, потому что эти исследования мешают некоторым людям оценивать себя достаточно высоко.
Большинство проблем в мире, к сожалению, от завышенной самооценки. Надо уметь уважать чужой уровень. Вот те, кто не уважают Латынину и пишут о ней всякие подлости и пошлости, мало чем отличаются от людей, которые когда-то ее подкарауливали с ведром фекалий. Латынина написала несколько книг, и не только «Ахтарский цикл», и не только «Фантастический цикл», и не только ее публицистические работы, и не только, как такие романы типа «Промзоны». Латынина вообще написала несколько книг, которые уже вошли в историю русской литературы. Она создала несколько жанров, которых до нее не было. Вот, в частности, производственный боевик капиталистической эпохи нового поколения – здесь просто с Латыниной трудно соревноваться. Она – серьезный писатель, и все эти претензии мне кажутся довольно смешными. Я с нетерпением ожидаю новой книги Латыниной, очень толстой. Книга анонсирована на эту осень, там она собирается свести счеты с христианством, особенно ранним. Ожидаю этой книги для того, чтобы уважительнее, но яростнее с ней полемизировать. И вообще общение с Латыниной, с ее отцом и матерью – все-таки Алла Латынина тоже очень крупный критик – для меня всегда интересно. И Леонид Латынин человек очень интересный. Мне с ними нравится. Я с ними почти всегда не согласен. Но ход их мыслей меня восхищает. Я думаю, что Юлия – один из самых интересных собеседников, которые сегодня существуют. И я раз в год делаю с ней большое интервью в «Собеседнике», просто потому, чтобы сверить часы, если угодно.
В очередной раз пытается Штольц – это псевдоним такой – как-то меня подколоть. Штольц – это «гордыня» в переводе с немецкого, кстати, и в «Обломове» та же история. Опять человек ужасно тужится сказать что-то ироническое. Как сказано у Марка Твена, «опустим занавес милосердия над этой душераздирающей картиной».
«Правомерен ли тезис Андрея Кураева о том, что покой, который даруется Мастеру и Маргарите, не награда за страдание, а наказание за своеволие?» То, что это скорее всего наказание – безусловно. Потому что день или два – он вытерпит этот покой, а на третий, конечно, он взбунтуется. Есть ли выход из этой участи? Это вопрос.
«О ленинградских поэтах периода оттепели?» Эту лекцию я не просто могу прочесть, а это моя, если угодно, профессиональная обязанность, потому что и диплом я защищал по ленинградской литературе 60-70-х, и почти всех этих людей я лично знал. И, наконец, я ученик Слепаковой – одного из ярчайших поэтов этой эпохи. Я всех их знал лично. Вот, кстати, 12-го сентября надеюсь обедать с Кушнером, если будем все живы. Кстати, лекция о Кушнере уже была по случаю его юбилея. Я бы мог это сделать, меня как бы смущает сама легкость этого задания. Ну вот сейчас у меня выйдет в серии «ЖЗЛ» сборник эссе о шестидесятниках, там будет и Кушнер, и Слепакова, и о них я бы поговорил. Тут интересные поэты, которых мало кто помнит, поэты так называемого… не скажу второго ряда, поэты все равно первоклассные. Но поэты менее заметные. Такие, как Наталья Карпова, покойная, царствие ей небесное, или Зоя Эзрохи, одна из самых ярких поэтесс 70-х годов.
Мне очень жаль, что эти имена не так известны, как могли бы. И Кушнер, конечно, прав: ленинградская и петербургская поэзия была оттеснена громкими эстрадниками, а ведь такие имена, как Соснора или Тарутин, или уж, знаменитый автор песни «Когда качаются фонарики ночные» Горбовский, – они были несколько оттеснены. Это трагическая ситуация, но сейчас справедливость несколько восстановлена. Не говоря уже о том, что пятитомник Слепаковой мы распродали – совершенно неожиданно для себя – пятью тиражами. И ее книга избранного, вышедшая в «Амфоре», тоже бьет рекорды продаж. Видимо, дождались поэты менее заметные, поэты более глубокие, дождались настоящего интереса. Московские шестидесятники сейчас далеко не могут претендовать на ту актуальность, на то внутреннее отчаяние, которое, собственно, вывело в первые ряды, скажем, Кушнера. «А мы стиху сухому привержены с тобой». Вот это:
Дымок от папиросы да ветреный канал,
Чтоб злые наши слезы никто не увидал.
Вот сейчас, наверное, пришло время для такой поэзии, «чтоб злые наши слезы никто не увидал». Москва действительно как-то расхристанней.
Еще чего, гитара!
Закушенный рукав.
Любезная отрава.
Засунь ее за шкаф.
Пускай на ней играет
Григорьев по ночам,
Как это подобает
Разгульным москвичам.
Наверное, сегодня петербургская поэзия берет некоторый реванш, но сейчас все петербургское взяло реванш. Но болею я в данном случае только за поэзию, все остальное, мне кажется, могло бы вести себя скромнее. Петербургский характер тоже сложный, у него есть несомненные преимущества, но и несомненные минусы. А вот о поэзии, может быть, когда-нибудь поговорим.
Тут вопрос про Ольгу Бешенковскую. Не просто знаю, но и лично знал. Другое дело, что цитируемые ваши стихи не принадлежат к числу самых сильных у нее. Бешенковская –выдающийся религиозный поэт. Крупный, настоящий религиозный поэт. Как сказал мне замечательный петербургский литератор Угренинов, очень его люблю: «Все-таки надо отличать хороших поэтов от больших». Бешенковская, безусловно, большой.
«Что вы думаете о творчестве Татьяны Галушко?» Вот как раз Татьяна Галушко – один из выдающихся петербургских поэтов. Огромный поэт и, кстати говоря, ближайшая подруга Слепаковой. Как поэт гораздо более яркий и темпераментный. Помните:
Теперь я обхожусь без черновых…
Поэзия с годами стала думой,
привычкой, неотступной и угрюмой
без внешних признаков, как таковых.
Очень сильные стихи, хотя Слепакова ругала ее за это. «Тебе бы, Танька, не надо обходится без черновых». Все равно, тем не менее спонтанность высказывания у нее очень сильна. Она большой поэт, конечно, первоклассный.
«Недавно открыл для себя «Эвакуатор». Почему родиной Катьки выбран он, и как он связан с вашей биографией?» С моей не как не связан, он связан с биографией Иры Лукьяновой, которой этот роман посвящен. И бабушка ее, Кира Борисовна, кстати, как и моя, моя тоже Кира Борисовна – не такие частые имена, и это совпадение для нас очень значимо. В гостях у бабушки в Брянске я бывал, поэтому описываю Брянск, точно зная, как это выглядит. И для меня в Кате очень многие черты и приметы совершенно конкретного человека. Кстати, Алан Кубатиев ее опознал, безошибочно, он ведь у Лукьяновой преподавал в Новосибирске. Это мне очень приятно.
«У Брянска четыре района». Да, я знаю, спасибо большое. «Школа, принесшая много страданий героине тоже наша или типичная?» К сожалению, типичная. Школа взята из Новосибирска. «Есть ли прототип у бабушки?» Да, и бабушка, и дед-учитель совершенно конкретные люди. «А другие герои-брянцы: анестезиолог и участковый?» Нет, анестезиолог прототипа не имеет, а вот участковый имеет. Имел тогда в 2005 году.
Д.Быков: Солженицын избежал риска засахаривания, которым у нас, так или иначе, губят значительных людей«Не нашел вопросов по связи этого романа с Брянском». Видите, вооб
echo.msk.ru
Дмитрий Быков — Один — Эхо Москвы, 19.10.2018
Д.Быков― Доброй ночи, дорогие друзья. Сегодня совершенно естественно, что начнем мы с керченской темы. Понимаете, очень велик соблазн употребить такую фразу, сказанную некогда нацлидером: «Вы тогда меня не слушали, послушайте теперь». Эта фраза мне просто очень не нравится. Не нравится мне ее обиженный тон. Но, во всяком случае, то, о чем я говорю последние три года, мне кажется, теперь должно быть услышано.
Меня многие спрашивали: «Почему я согласился выступить в Совете Федерации?» Потому что это был один из немногих шансов донести до крупных чиновников мысли о необходимости экстремальной педагогики. Конечно, я прежде всего должен выразить соболезнования всем, кто пострадал, и предостеречь от многих обобщений. Потому что сейчас, конечно, начнут разбираться с руководством этого техникума, оно и так пострадало. И вообще-то не руководство техникума должно решать вопрос о психиатрической экспертизе сложных учащихся, об организации охраны высшего учебного заведения. Они же не всемогущие, они посадили там внизу вахтера, а поставить рамки сами они, вероятно, не могут. Школьного или вузовского психолога заставить проводить регулярные тесты они не могут. И, в общем, я бы хотел, чтобы со стрелочниками не расправлялись, но это бессмысленное заявление.
Я помню, что директора школы в Беслане очень многие спешили обвинить, хотя я делал с ней тогда интервью, и мне ее невиновность, или, во всяком случае, минимальная виновность, были очевидны. Естественно, многие тогда спешили (особенно из жертв, пострадавших, родственников) ее обвинить. Кстати говоря, сами жертвы (раненые или получившие психическую травму) в меньшей степени, чем родственники. Так всегда бывает. Но я хотел бы привлечь внимание к теме экстремальной педагогики. Она позволяет решить две проблемы.
Первое – это на ранних этапах расследовать, выявлять, блокировать опасные тенденции в классе. Вторая вещь – это позволит мотивировать учащихся педвузов. Ни для кого не секрет, кто идет сегодня в педвузы? Они набираются по остаточному принципу. Это те, кого не взяли больше никуда. Процентов на 60, по моим подсчетам, это так. 40 процентов – есть искренне мотивированные, но дело в том, что работа в школе – это работа довольно-таки каторжная, работа в вузе тоже не легка. А особенно – в колледже, в техникуме, который занимает промежуточное положение. Не средняя и не высшая школа.
Мне кажется, что нужно давать учителям совершенно особые и специальные льготы. Выход на пенсию после 40 лет, потому что учитель должен быть на ногах постоянно. Если он сидит перед классом, он не видит, что в классе происходит. Если он прохаживается по классу, он его не контролирует. Он должен постоянно удерживать внимание детей. Это очень трудно.
Мне большая часть моей работы – лекции, журналистика, эфиры на радио – представляется легче школьной. Понимаете, школьная работа труднее всего и оплачивается хуже всего. Я этим занимаюсь этим как экстремальным спортом, это мое развлечение. Но в принципе, человек, который занимается этим не только по зову сердца, а ради выживания или ради миссии (разные бывают мотивировки), должен, конечно, помимо удовольствия от работы должен получать очень серьезную помощь от государства. Он должен быть привилегированным зрителем премьер. Учитель обязан быть в курсе этого всего. То, что учителям не организуют походов на «Кислоту» – мне не нравится эта картина, но она значительная, но она достойна того, чтобы ее смотреть, – то, что им не устраивают (как раньше устраивали) педагогических конференций с обсуждением новых фильмов о молодежи, новых книг, – это преступление. Учитель должен быть первым кандидатом на международный обмен. Даже в эпоху холодной войны, как сейчас, он должен выезжать за границу и знакомиться с передовым опытом.
После 40 лет он должен уходить в методисты или в вузовские преподаватели, – это работа все-таки более спокойная. Поймите, школа – это экстремальное дело. И то, что сегодня класс подготовки учителей не заслуживает ни одного доброго слова, то, что в педвузах меняется руководство, то, что в педвузах дошло уже чуть ли не до молебнов перед лекциями, то, что программа этих вузов не менялась очень давно, то, что методическая подготовка в них на жалком уровне (простите, я знаю об этом из первых рук), – это все ведет к катастрофе.
Для чего нужна экстремальная педагогика? В России должен быть создан институт, похожий на институт совершенствования учителей. Но это должен быть институт, где работают специалисты, педагоги, психологи, готовые разруливать сложную ситуацию. Вы сообщаете туда, если вы учитель, что в классе травля, и вы не можете с ней справиться. Приезжает такой инспектор, естественно, не под своим именем и не под своим прямым должностным назначением. Он приезжает, допустим, как проверка из вышестоящей инстанции, или как гость, или как заезжий писатель, как журналист, – неважно. Он приезжает в этот класс и начинает с ним работать. Он должен разобраться в ситуации на месте. Поводом для такого выезда на место является травля в классе, любой буллинг: «Буллинг для Колумбайн» [«Боулинг для Колумбины»], помните, история, изложенная в классическом американском фильме Мура, документальном, – фильме, который большинство российских учителей не смотрело. Ведь это Майкл Мур, это же не касается нас.
Вторая ситуация – это, условно говоря, «синие киты». Любая суицидная мания, любая секта, которая в классе поселяется. Пример аутичного, не контачащего с остальными школьника, который подозрителен. И уж конечно, ситуация, когда человек страдает от несчастной любви и публично заявляет, что он расквитается с возлюбленной или расквитается с учителями. Здесь, насколько я понимаю, случай Рослякова: были ситуации, когда люди слышали о его заявлениях.
Неблагополучие с родителями, родители, которые пьют или бьют школьника, взаимонепонимание с учителем. Есть такие дети, которые стоят иного взрослого дебошира, которые целенаправленно срывают уроки, которые выбирают учителя своей жертвой. Легче всего сказать, что такому учителю не место в школе. Но этак мы пробросаемся. Понимаете, мы начнем терять специалистов-профессионалов. Да, иногда учителю на первом, на втором году работы, особенно во время студенческой практики трудно подчинить класс своей воле, а это делать придется. Ему нужны психологические советчики, ему нужна помощь. И помощь не снисходительная и высокомерная, а помощь старших коллег. Это должен быть чужой, посторонний человек; человек, приезжающий откуда-то и наводящий порядок.
Представьте, как интересна была бы жизнь этих инспекторов в этом институте, как интересен был бы этот институт экстремальной педагогики, пытающийся решить эту проблему: почему в известном возрасте (чаще всего в подростковом) любовная драма приводит к желанию расправы не с ней, не с героиней, а с остальными. Почему вот так странно рикошетит эта проблема? Она и в Штатах не решена, и в России не решена. Но если она не решена в Америке, нельзя бесконечно кивать на Америку: ее надо решать здесь и сейчас, в России.
Д.Быков: Работа в школе — каторжная, работа в вузе тоже не легка. А особенно – в колледже, который занимает промежуточное положениеКонечно, национальный лидер уже успел сказать, что виноват во всем глобализм. Ему глобализм во всем виноват. И если ему представляется, что виноват в данном случае интернет, по которому школьник узнал про Колумбайн – ну почему не допустить, что виновата атмосфера насилия и жестокости в обществе, культ силы, который есть, и требование решать все силой, – много чего виновато. Тут надо решать не кто виноват, а что делать. И делать, на мой взгляд, необходимо одно: необходимо создавать учителя нового типа. Потому что вызовы, с которыми сталкивается сегодняшний педагог – это не то, что старенькая учительница 1985 года, которая из последних сил пытается удержать класс. Дети стали другими, они умнее, они быстрее, информированнее, и, простите, уязвленнее, травматичнее. Как когда-то очень точно сказал Шендерович: «Возможно, это не поротое поколение». Но оно – условно говоря – страдает от своей непоротости, оно порото своей непоротостью, потому что оно и не получает должного внимания. Его игнорируют в принципе.
Его игнорирует кинематографа, если не считать патологических случаев, которые очень часто становятся темой искусства. После «Школы» Гай Германики я не помню фильма, который бы всерьез занимался рядовыми, не экстремальными, просто рядовыми проблемами школы. Понимаете, я знаю очень хорошо по долгому опыту сегодняшний педагогический состав. И я знаю, что можно построить для них 20 идеальных элитных школ, в которых дети будут свободно перемещаться по классу, в которых они будут заниматься чем хотят, в которых им предоставят идеальные спортзалы, трубу для съезда с третьего этажа на первый – такое я тоже видел, невероятную музыкальную подготовку, лучшие инструменты, нанобетон, из которого будут сделаны пружинящие лестницы, – все это можно сделать. Но нельзя выработать самостоятельно новую концепцию педагогики. Это дело государственное.
Когда у нас крупнейший экономист страны заявляет, что нам не нужны больше физико-математические школы, он не понимает, зачем эти школы нужны. Они нужны не для того чтобы было больше математиков, а для того чтобы было больше интеллектуалов. Общество, в котором занижен процент интеллектуалов, нежизнеспособно. Колмогоровский интернат был нужен не для того чтобы математиков плодить, а для того чтобы там дети спектакли ставили (там Ким преподавал), для того чтобы там вырабатывались современные подходы к экономике, а не только для того чтобы математики где-то существовали.
Если Греф предлагает упразднить математические школы, я не понимаю, собственно говоря, какова цель руководства страны. Она вообще в том, чтобы одурить страну окончательно? Ну тогда не удивляйтесь, что у нас нет педагогики, нет людей, способных блокировать опасные ситуации. Если сейчас, после такого не создать в России институт срочной педагогической помощи, мы будем сталкиваться с этим еще и еще. И эта проблема из тех, которые требуют насущного решения. Пока в стране не будет хороших врачей и учителей, не надейтесь спасти ее хорошими офицерами. Вот это, по-моему, сказать необходимо.
Д.Быков: Учитель должен быть первым кандидатом на международный обмен. Даже в эпоху холодной войныДавайте поотвечаем на вопросы. Тут, кстати, очень много заявок на лекцию, но я не могу устроить себе такую халяву, чтобы читать здесь лекции, которые и так уже объявлены в «Прямой речи». Ну например, завтра у меня в «Прямой речи» в 8 вечера лекция про Галича. Сейчас его столетие, естественно, что очень многие просят о нем поговорить, но это было нечестно, потому что я уже готовлюсь к лекции, которая будет завтра в «Прямой речи», приходите. Волшебное слово работает – работает при наличии билетов, естественно. Хотя мы как-то справляемся с нехваткой мест, вот и на Кушнера…
Кстати говоря, спасибо всем, кто пришел. Это было такое счастье, такой праздник. Он устроил какую-то невероятную радость для всех. Он час читал, еще полчаса слушал, как я читаю, терпел это, потом остался еще на час с теми, кто хотел. Слушал их чтение, своих шедевров, читал сам по заявкам, – показал в Москве мастер-класс. Это было совершенно упоительно. Ничего, стояли частично, там не то что яблоку, там семечку негде было упасть, но зато было очень весело. Понимаете, раздвинули стены, как-то увеличили зал, – ничего. Так что приходите: в тесноте, да не в обиде. Завтра вот Галич будет. Просят лекцию про Кафку, и тоже это не совсем честно, потому что 19 ноября в ЦДХ, у меня про Кафку большой разговор. Приходите, это будет, на мой взгляд, довольно интересно.
Просят поговорить о последнем романе Пелевина. Мне самому этого очень хочется. Но 30 октября будет лекция «Пелевин: старый, добрый и новый», это будет тоже в «Прямой речи». Вы можете, конечно, сказать, что я не хочу читать лекции бесплатно, – я хочу, в том-то и дело. Но мне неинтересно повторяться, поэтому сегодня я буду говорить о теме провокатора. Очень много заявок, с прошлого раза. Очень интересная тема – провокатор в русской прозе, кстати, и не только в русской. Тема провокатора и двойного агента в более широком смысле. Приглашаю всех, естественно, завтра в Ермолаевский 25, и, соответственно, 30 октября будем разговаривать про Пелевина.
«Почему мы, становясь взрослыми, все более погружаемся в быт, в бытовуху, ведь мы были легкими, мечтающими с горящими глазами, Ассоль превращается в брюзжащую мадам, а Грей вместо классики читает желтую прессу. Наблюдается откат, хотя, казалось бы, человек с возрастом должен эволюционировать, развиваться, но засасывает его рутина. Есть ли в литературе такие герои?»
Понимаете, тема такого падения в быт – это тема довольно частая, и я бы не сказал, что трагическая. Потому что вечно оставаться романтиком, несколько розоватым, – мне кажется, в этом есть какая-то не то чтобы инфантильность… А, вот, меня поспешно поправляет Николай Руденский. Какое счастье, что есть люди, которые так пристально за мной следят. Он говорит, что правильно не «боулинг», а «буллинг», или не «буллинг», а «боулинг». Я очень счастлив, что вызываю у этого человека, да и у многих людей такое страстное, напряженное желание отслеживать все мои ошибки. Именно я. Нет, конечно, и Латынина тоже его героиня… Я счастлив, что я будоражу этого человека. Правда, иногда он не считает грехом переврать мою цитату, иногда свое неправильное понимание моей цитаты… Я про вас, про вас, Николай, слушайте внимательно. Иногда неправильное понимание этой цитаты выдать за истину. Но мне это тоже важно. Мне нравится, что у этого персонажа есть некая болезненная фиксация на моей теме, и что он небезразличен, я бы сказал, душевно небезразличен к моему – как сказать, творчеству? Наверное, это не совсем правильно. К моей работе, к моей деятельности. Это приятно, и особенно приятно, что именно этот человек, не вызывающий у меня довольно сильных чувств, реагирует на меня с такой силой.
Буллинг, боулинг – здесь это не принципиально. Буллинг – это травля, есть такое слово. И мне кажется, что нет здесь большой ошибки принципиально. Хотя я не надеюсь, что Николай Руденский полюбит меня. Более того, я надеюсь, что Николай Руденский, которому я уделил столько места (я думаю, его тщеславие должно быть удовлетворено), не полюбит меня никогда. Это как-то будет способствовать моей высокой самооценке. Оперативность реакции заслуживает особенного комплимента. Я надеюсь, что так же оперативно отреагируют те люди, от которых непосредственно зависит решение насчет экстремальной педагогики. Приятно и то, что некоторые люди реагируют не на сущность высказывания, а на букву, в буквальном смысле. Но это тоже не страшно. В конце концов, каждый должен быть нагляден, и мне приятно, что некоторым людям я помогаю таким образом проявиться. Больше, я надеюсь, я к этому персонажу – по крайней мере, сегодня – не возвращаться, предоставляя ему возможность комментировать нас сколь угодно.
Так вот, возвращаясь к проблеме быта. Быт – это, конечно, трагическая проблема, но я не вижу ничего драматического в том, что человек с годами становится менее романтичен. Надо вообще меняться, понимаете? Нужна какая-то дельта. Если бы Ассоль вечно оставалась романтической возлюбленной Грея, если бы она вечно оставалась девчонкой, в которой счастье лежит, как мы помним, у Грина, пушистым котенком (по-моему, очень неудачная формула) – как-то скучно было бы. Если бы Наташа Ростова всегда оставалась 14-летней, юной, порхающей, а не превратилась бы в ту самку, которую мы видим в финале… Толстой очень точно почувствовал, что Наташа Ростова при всей своей одухотворенности и юности не удостаивает быть умной, а, следовательно, это княжна Марья может сохранять интерес к высшим горним материям. Но не сохраняет его Наташа Ростова, которая интуитивно очень много чувствует, но ее мир сужается, она становится все больше женщиной, даже в чем-то бабой. Наверное, это печально, но, наверное, такова судьба всех женщин, живущих не столько умом, сколько чувством.
И мне бы, кстати говоря, было приятным видеть меня самого несколько забытовленным, несколько более погруженным в быт, чем это было в 14-летнем или в 20-летнем возрасте. Это не плохо, это не трагедия. Не обязательно же читать желтую прессу. Можно, наоборот, читать серьезные книжки. И взросление – это не трагедия. По-моему, трагедия – это отсутствие его. И одна из главных бед российского сознания – это его колоссальный инфантилизм.
«Большая часть современной американской литературы нам не доступна», – почему, доступна, вполне, закажите на «Озоне» – «есть ли достойные внимания американские произведения, которые не были переведены на русский язык?» Вот сейчас переведен Дэвид Фостер Уоллес, хотя я не считаю его, конечно, главным американским прозаиком, но многие считают. Довольно оперативно переводится Пинчон. А Дэвида Фостера Уоллеса Поляринов перевел, «Infinite Jest».Он называется «Бесконечная шутка», но выйдет он с большим опозданием. Примерно год назад эта работа была совершенно готова к изданию, но вот наконец этот гигантский труд увидит свет, насколько я знаю, к ярмарке нон-фикшн. Ничего дурного в этом нет, ради бога.
Что касается остальных американских авторов. Оперативно переводится Пинчон. Переводится, на мой взгляд, чудовищно, но я вот знаю, что один новосибирский профессор (пока я его не называю, потому что этот перевод пока еще только готовится к печати) закончил блестящий перевод «Against the Day». Он мне его прислал, и я с наслаждением его читаю. Надеюсь, что мы свяжемся с издательством «Гонзо», и оно, может быть, поможет это обнародовать. Довольно оперативно переводится Франзен.
Понимаете, американская литература чрезвычайно богата и разнообразна. Это огромная страна и огромная проза, да и поэзия недурная, кстати говоря, насколько я могу судить. И, естественно, быстро это переводить, нужен эксперт, который бы это читал. Но, кстати говоря, «Линкольн в Бардо» уже переведен. Англоязычная литература нуждается в постоянном обзоре. Я не знаю, кто кроме Бориса Кузьминского сейчас достаточно регулярно реагирует на эти новинки в сети. Но пока нам грех жаловаться. Все-таки, главные книги переводятся.
Очень плохо и мало переводится детская и подростковая литература. В Америке это огромное направление, и я считаю, что американская подростковая проза не уступает взрослой, и много там произведений, классических уже сейчас. «Джезбол», например. Правда, она не подростковая, она юношеская. Это очень круто. Я горячо это рекомендую.
«В американском фильме «Воспитательница» мальчик сочиняет стихи, нетипичные для ребенка. Когда вам было пять лет, вы тоже писали стихи, в которых был заложен смысл для взрослых. Нормально ли это для вундеркинда?»
Я был ведь не совсем вундеркинд, все-таки. Воспринимался тогда так, и многие за это меня всячески похваливали, растили и посылали в кружки, но на фоне нынешних вундеркиндов я был мальчик абсолютно нормальный. Стихи у меня тогда были очень инфантильные. Более-менее взрослые стихи я начал писать лет в 14-15. Это нормальная подростковая практика.
«Вы часто ссылаетесь на Витгенштейна, мы даже заставили вас прочитать лекцию о нем. Есть ли другие философы, которые вас когда-то зацепили?» Есть, конечно. В первую очередь, Фрейд – его я считаю философом, а не просто психологом. «Тотем и табу» – философская работа, согласен я там или не согласен, никто не спрашивает, но это выдающийся текст.
Д.Быков: Школа – это экстремальное делоМеня очень интересовал Розанов. Не знаю, можно ли его назвать философом, он литератор, публицист. Вообще русская философия на 90 процентов – это публицистика, Бердяев, в частности. Если брать гуссерлианское понимание, философию как строгую науку, чистую феноменологию, то можно ли говорить о каком-то русском философе? Я думаю, что один Флоренский, и то с некоторыми поправками. Шестов никогда мне не нравился, а вот к Розанову сложное отношение. Это любовь и ненависть. И, конечно, Мережковский как мыслитель, как автор «Больной России» и «Грядущего хама». Не только как беллетрист, а именно как мыслитель социальный, как критик, прежде всего. С «Вечными спутниками», с работой его о Толстом и Достоевском, – конечно, он для меня один из эталонных авторов.
Что касается философов более современных, то, понимаете, я мало знаком с тем, что сегодня называют философией. К сожалению, здесь нет единомыслия. Очень многие люди не считают философию Подороги строгой философией. Он вызывает жесточайшую критику, как и Вадим Руднев. Но мне это всегда было интересно читать, это вызывает полемику живую, это занятно. Я не могу сказать, что меня когда-то философия по-настоящему интересовала. Меня интересует скорее такой пограничный жанр, футурология какая-нибудь. Но, в принципе, мне кажется, что самая крупная фигура здесь – это Флоренский, безусловно, и Розанов времен «Сахарны». «Сахарна», конечно, чудовищная книга, но очень наглядная, фантастически показательна. Господи, а разве не показательна книга «Осязательное и обонятельное отношение евреев к крови», в которой Флоренский принял непосредственное участие, хотя и анонимно. Да полезная книга, много из нее чего можно подчерпнуть.
«Лекцию о «Хаджи-Мурате». Подумаю. «Сказки Вадима Шефнера – каково ваше мнение о них?» Я очень люблю Шефнера. Я считаю, что «Девушка у обрыва, или Записки Ковригина» – одна из лучших фантастических повестей 60-х годов, когда очень есть из чего выбирать. Но я больше люблю Шефнера мемуарного, литературно реалистического такого вполне. «Сестра печали», «Облака над дорогой», «Счастливый неудачник». Но и фантастика его замечательна. Вот «Лачуга должника», «Чаепитие на желтой веранде», хотя оно традиционное. Но вот «Девушка у обрыва» мне кажется самой поэтичной, самой остроумной его вещью. А стихи его как я люблю! Помните, у нас тут лекция была, я его читал чуть ли не полчаса на память. Услышимся через три минуты.
[РЕКЛАМА]
Д.Быков― Продолжаем разговор. «Смотрели ли вы сериал «Двойка»?» Сережа, не смотрю я сериалы, в этом моя проблема. Какие-то – типа «Черного зеркала» – иногда.
«Как-то вы сказали, что, когда красивая женщина говорит о чем-то, это кажется очень умным, а если еще и о литературе, то восторг обеспечен». Красивая женщина сама по себе выглядит как бы авторитетным источником, потому что красота не просто так дается. Красота как бы освящает говорящего, не освещает, а освящает его. Не всегда это так, мы знаем. Но все-таки красота сама по себе – это дополнительный пьедестал, дополнительный фактор внимания, доверия. «Эту особенность отметил Пелевин, когда описывал Анку в «Чапаеве». Есть такая особенность, да, безусловно. «После него тяжело ловить себя на этой наивной приятности. Как это работает с вашей точки зрения?» Уже сказал: эстетическое с этическим всегда как-то коррелирует. Почему это соотношение есть? Если б я знал! Но, к сожалению, не всегда можно этому противостоять. Может быть, это и к лучшему, испытание такое, потому что…. Вот Розанова сказала в этом интервью: «Красивой женщине трудней. Каждый, глядя на нее, думает, почему ты не моя». А я думаю, что красивой женщине легче. Потому что у нее есть дополнительное оружие, дополнительный фактор убедительности, если угодно.
«Каково влияние Востока на русскую литературу?» Богатое и разнообразное. Я думаю, прежде всего, это Грибоедов. Стихотворение «Восток», может быть, и приписывается ему, хотя Тынянов не сомневался в его принадлежности, но это, правда, в «Смерти Вазир-Мухтара». А вообще, конечно, «Грузинские ночи» недописанные, да в целом Грибоедов – такой тоже своего рода пленник Востока, и погиб он там. Хотя о причинах и механизмах его гибели спорят до сих пор, несомненно, что он интересовался Персией всерьез как мыслитель, и не только как поэт. И не только как политик, безусловно.
Огромно влияние Востока на Лермонтова. «Небеса Востока меня с ученьем их пророка невольно сблизили». И это учение пророка, я думаю, в лермонтовском фатализме сказывается очень непосредственно. Особенно, конечно, в лермонтовском принципиальном выборе профессии, исключительно поэта и странника, в его отказе от любого сотрудничества с официозом. Ведь Лермонтов и Печорин говорят о том, что «силы они в себе чувствуют необъятные», и могли бы они принести, возможно, большую пользу на любой службе. Но Лермонтов тяготится военной службой и просит отставки. Поэт, странник и воин – вот три достойных профессии, причем к профессии воина он охладевает впоследствии. Я думаю, что здесь влияние Востока самое непосредственное, потому что быть мыслителем и бродягой – вот такой идеал. Кстати, это и пушкинский идеал времен «Из Пиндемонти».
«Даже у западника Достоевского князь Мышкин медитировал, глядя в Альпы». Нет, князь Мышкин – фигура как раз не западная. То, что он лечился в Швейцарии, не делает его западным персонажем. Достоевский очень интересовался проблемой Востока, но, я думаю, с годами он сосредоточился бы на ней, просто не успели прочесть, а он не успел написать второй там «Карамазовых», который был бы в гораздо большей степени либо пронизан идеями Леонтьева, которым он очень интересовался. «Государство-церковь» появляется в первой части «Карамазовых». А возможно, он бы, наоборот, с этим порвал радикально. Но то, что он все больше интересовался восточным вопросом, проливами, Константинополем, водружением креста над Айя-Софией, – я думаю, это все-таки влияние Востока. Поскольку его отношение к Западу – это отношение романтическое. Он уверял, что он верит и любит старую Европу, Европу Крестовых походов. Нынешняя Европа, цезаропапизм, – все это ему глубоко отвратительно.
Думаю, что Владимир Соловьев (мыслитель и поэт) не зря так интересовался панмонголизмом, потому что видел в нем расплату за огосударствление Церкви, за Антихристову Церковь, если угодно. И «Скифы» неслучайно имеют эпиграф из Соловьева. «И желтым детям на забаву даны клочки твоих знамен», – говорит Соловьев о третьем Риме. «Третий Рим лежит во прахе, а уж четвертому не быть». Просто попытка рассматривать Восток как альтернативу прогнившему Западу началась еще у Лермонтова в «Умирающем гладиаторе», и я боюсь, что это опасная тенденция. Я бы даже рискнул сказать, что это гибельная тенденция. Хотя многие и сегодня искренне убеждены, что свет с Востока этот, lux ex oriente, он еще придет, в чем я сомневаюсь очень сильно, и пассионарность не кажется мне сколько-нибудь симпатичным термином. Она не кажется мне, более того, сколько-нибудь обнадеживающим состоянием. Потому что пассионарность чаще всего – это синоним элементарной дикости.
«Каков следующий шаг в киноиндустрии страха?» Я уже говорил, что, по всей видимости, поэтическое кино; такое, как у Тарковского в «Сталкере», будет все шире осваиваться массовой культурой. Это уже есть у Гора Вербински в «Лекарстве от здоровья», это есть и во многих других историях. Это нормально. Поэтическое и страшное связаны, как связаны тайна и поэзия. Поэтому мне кажется, что примитивная страшилка – въезд семьи в дом, где некогда было совершено убийство – вытеснится гротескным, абсурдистским кинематографом, кинематографом поэтическим. Условно говоря, мистика перестанет быть страшной сказкой. Она станет такой туманной аллегорией или какой-то, может быть, поэтической притчей, как у Бергмана, который был, конечно, замечательным мастером триллера. «Лицо», «Персона» – что это, не триллер разве? А в конце концов, Антониони – разве это не страшное кино? Я говорил, что «Blowup» – это образец современного триллера. Даже не «Приключение», а вот именно «Blowup».
«Как вы относитесь к работам по изучению мифологии сказки Агранович?» Недостаточно с ними знаком, чтобы судить.
«Насколько бунт Камю имеет ницшеанские корни?» Да нет, я думаю, что это корни другие. Все-таки Камю исходит из идеи абсурда человеческого бытия. Понимаете, Ницше в очень малой степени модернист. Ницше как раз антимодернист, как мне представляется. Именно поэтому идеи Ницше подхвачены были фашистами. Они не растут непосредственно из Ницше, но корни, какие-то корни, наверное, фашистского в ницшеанском иррационализме есть. Так что, боюсь, Камю – человек модерна, все-таки человек просвещения и убежденный антифашист, как мы можем судить по «Чуме». Я не думаю, что он имел ницшеанские корни – я думаю, что он от Ницше скорее отталкивался, хотя, безусловно, многому у него научился.
Я не думаю, что идея абсурда – основная для Камю – каким-то образом имеет ницшеанские корни, потому что для Ницше (как и для Достоевского, кстати) чем абсурднее, тем оно лучше. Рационализм для него что-то рабское, это лакейская религия – рационализм, прагматика. А Камю, все-таки, человек здоровый, прагматичный и очень скептически настроенный по отношению к иррациональности. Абсурд по нему – это, все-таки, то, что должно преодолеваться.
«Если Иисус – трикстер, то кто является сопоставимым фаустианским героем? Возможно, апостол Павел?» Наверное, в какой-то степени. Хотя… Я говорил много раз о том, что фаустианский герой является сыном, отпрыском, младшим по отношению к трикстеру. Как сын Одиссея – это Телемак, и, по сути, фаустианская тема в психологической литературе начинается с фенелоновских «Приключений Телемака». Потому что сын трикстера – это мыслитель, это неудачник, это такой задумчивый путник, а вовсе не удачливый шутник, бродячий учитель. Апостол Павел выступает по отношению как наследник, он же не прямой его ученик. Да, что-то фаустианское есть в этой фигуре, но, конечно, более фаустианская фигура, точнее, пограничная между Фаустом и трикстером – это Гамлет. В нем уже есть фаустианские черты. Ну а решающий вклад в тему вносит Гете.
«Как вы относитесь к высказыванию, что городская среда и архитектура формируют человека и общество?» Не верю в это. Я помню замечательную фразу Валерия Попова о том, что когда ты идешь мимо классической ленинградской архитектуры, ты понимаешь свое место, ты знаешь его. Справедливо. Но знаю я и то, что никакая архитектура, к сожалению, не способна создать для человека культурную, воспитывающую его среду. В Европе все очень неплохо с архитектурой обстояло: и в Кельне, и в Мюнхене, и никого это не остановило. И в Австро-Венгрии, в Вене, неплохо все обстояло. И все это уничтожено. И Дрезден, пока его не разбомбили, был вполне себе красивый город. Я не думаю, что городская среда формирует. Формирует контекст, в котором ты живешь.
Другое дело, что действительно, прямые улицы Петербурга как-то выпрямляют душу. Люди, живущие там, труднее поддаются обработке, в том числе и идеологической. Но права Туровская: «Культура не спасает ни от чего». Верить в культуру как в смысл человеческого существования можно. Но как в тормоз, как, если угодно, в совесть, – нет, нельзя. Они вообще очень сложно соотносятся. И культурные люди чрезвычайно падки на государственную заботу, они легко начинают лизать кормящую руку. Это связано с некоторой переоценкой своих занятий, с приданием им слишком большого значения. И это погубило Мережковского, который взял у Муссолини денег, грант, если угодно, на книгу о Данте. Хотя у Муссолини даже на книгу о Данте нельзя брать ничего.
«В книге Кутзее «Дневник плохого года» автор утверждает, что в фильме «Семь самурев» Куросава повествует о зарождении государства. Можно ли так прочитать сюжет этой картины?» Можно, разумеется. Но не государства, а, скажем так, самоуправления, саморегуляции. В этом смысле, безусловно.
Д.Быков: Если виноват интернет, где школьник узнал про Колумбайн – почему не допустить, что виновата атмосфера насилия и жестокости в обществе«Существуют ли тупиковые направления в литературе?» Наверное, существуют. Я считаю, что тупиковым направлением является женский детектив, который и не женский, и не детектив. Но миллионы людей думают иначе. Понимаете, что является тупиковым направлением? Направление, в котором занижены, если не минимизированы вообще, возможности развития. Нет в этом катастрофы особенной. Но я не уверен, что есть куда развиваться комиксу, другие скажут – есть куда, и развивается прекрасно. Хотя в авангардный комикс я не верю. Мне кажется, что он сильно потеряет в нарративности, в эффектности повествования. Мне кажется, что если это будет авангардно, это будет труднее и неинтереснее смотреть. Но вот, к сожалению, здесь мое мнение не является окончательным.
«Что делать, если легко поддаешься пропаганде? Как научиться ставить блок?» Если вы уже задаетесь этим вопросом, значит, вы его поставили. Если вы легко поддаетесь пропаганде, поставьте на себе эксперимент. Пронаблюдайте за собой: каким вы становитесь в результате, как это на вас влияет, до какой степени вы меняетесь в нравственном аспекте, поддаваясь идеологической обработке. В некотором смысле это тема романа «Июнь»: каким образом идеологическая обработка приводит человека к садизму. Ну ничего страшного.
«Как вам фильмы Педро Альмодовара?» Никогда не мог его полюбить. Я понимаю, что он большой режиссер, но как-то все это проходит совершенно мимо меня, даром, что Пенелопа Крус – грандиозная актриса, и прежде всего его актриса.
«Остромов» – это круто». Спасибо. «Большое количество персонажей – это чтобы отразить эпоху или для художественной избыточности?» Нет, оно там не такое уж и большое. Просто видите – это вообще книжка многогеройная. Там и интрига такая хитро закрученная. Мне почему-то это количество персонажей было важно, может быть, чтобы создать контекст, может быть, чтобы у предмета появилась тень. Мне не хотелось просто рассказывать беллетристическую историю о загадочном таком злом вол
echo.msk.ru
Дмитрий Быков — Один — Эхо Москвы, 04.05.2018
Д. Быков― Доброй ночи, дорогие друзья. Сегодня у нас вторая и, надеюсь, на долгое время последняя передача, выходящая в записи, потому что я уже в среду вернусь, и в следующий раз мы выйдем с вами в прямой эфир. Я обнаружил с удивлением вот сейчас, за два часа до эфира, когда я это записываю, с удивлением обнаружил, что рухнул форум, или во всяком случае куда-то исчезли все вопросы, которые были на нем. Но слава тебе, Господи, у нас тут больше 150 вопросов на почте, какой-то взрыв взаимного интереса, поэтому мне есть на что поотвечать и есть на что обратить внимание. Единственное, что если за это время форум заработает, я, разумеется, прервусь и начну отвечать форумчанам.
В числе заявок на лекцию лидирует (и это для меня очень приятно и важно) лекция о литературе Великой Отечественной войны. Понятно, что ко Дню Победы это самая живая, актуальная и, рискну сказать, самая спорная тема. Я, естественно, сосредоточусь на этом, потому что именно об этом я в последнее время много думаю. Меня радуют вопросы о Домбровском, лекцию о котором мы сделаем непременно. Просьба прочесть лекцию об «Алисе в Стране чудес». Тоже, наверное, я это сделаю. Но сегодня будем говорить о советской военной прозе, отчасти поэзии.
Очень много, кстати, удивившие меня девять заявок на разговор о Шергине. Я о Шергине довольно много писал в разное время. Но мне надо, естественно, перечитать, перечитать все истории, связанные с сочинениями им собственных сказов и выдачей их за народные. Это как раз тот род замены, который я приветствую, ведь это, по сути дела, не присвоение, а дарение. Но Шергин — это вообще тема. Шергин, Писахов — это очень вписывается в советский тренд, когда, по сути дела, несколько интеллигентов написали фольклор. Бажов ведь тоже ничего не собирал, он все выдумал. Таких сказов не существовало, это авторская работа, основанная на хорошем знании немецкого романтизма. Так что, конечно, мы вернемся к этому разговору, а сегодня сосредоточимся на войне.
«Чем старше становлюсь, тем больше люблю сказки Кэрролла, хотя мне трудно объяснить, в чем притягательность героев его книг. Каково ваше восприятие «Алисы»?»
Эди, когда я начал читать «Алису» в двенадцать (у меня не было книжки, поэтому мне ее дал кто-то из одноклассников), разочарование мое было велико. Как вы понимаете, большая часть нашего поколения — второй половины шестидесятых — прочла «Алису» потому, что услышала радиокомпозицию с песнями Высоцкого и с его исполнением сразу нескольких ролей, самой заметной была попугай. Я, честно говоря, и пластинку эту не полюбил, хотя песни мне очень нравились, и я не полюбил сказку. Она мне показалась путаной, скучной, абсурдной. Я не очень любил тогда всяческий абсурд, он казался мрачным и не засасывающим. Я любил, страшно сказать, такую ясную логику, в известном смысле продолжаю любить ее до сих пор. Ну послушайте, должны побыть у меня какие-то свои границы восприятия, какие-то свои узости.
И я прочел по-настоящему «Алису» уже в армии. После армии перечитал более внимательно. Это сколько же мне было? Двадцать один год. И мне она показалась шедевром. Вот два произведения в моей жизни так кардинально сменили оценку, и вектор этой оценки сменился на противоположной. Это была «Москва — Птушки», которая при первом чтении поразила меня каким-то пьяным многословием, пьяным делириумом, болтовней. И только потом уже, много лет спустя, вне всякой зависимости от алкогольного опыта, я понял, что это произведение гениальное, а многое в нем, в частности вот это их обустройство собственной республики, в наши дни сбылось буквально с проектом Новороссия. Это вот именно то самое постоянное желание построить где-то правильную Россию, придумать ей герб и написать о ней в ООН.
Вторим таким текстом была «Алиса». Мое восприятие ее очень не совпадает с тем, что сейчас многие пишут в связи с переводом Евгения Клюева (переводом, кстати, блестящим), что Клюев вернул «Алисе» ее блеск и ее игровую стихию, ее веселье. Я воспринимаю эту сказку как очень невеселую. И больше того — конечно, маленьким девочкам она могла понравиться, потому что они могли не увидеть ее подтекстов. Но для меня это сказка о муках, о пытках, о страдании, о человеке, который попал в абсурд абсолютно авторитарного мира, авторитарного государства, где правящие всем королевы не имеют вообще никакого понятия ни о смысле, ни о милосердии, а соблюдают какие-то правила и, главным образом, правила бесчеловечные, правило абсурдные.
Вот для меня «Алиса» — это сказка печального одинокого интеллектуала, живущего в Викторианские времена; это попытка пусть на подсознательном уровне, пусть сублимированно, но все-таки пережить и каким-то образом трансформировать абсурд Викторианской эпохи. Это очень викторианское произведение. Я, может быть, даже сказал бы, что это квинтэссенция викторианства. Это распадающаяся империя, которая лихорадочно цепляется за жизнь, которая борется со всеми своими имперскими комплексами. И собственно говоря, вот в этом-то и главная ее проблема — что она мучительно пробует начать какую-то другую жизнь, а продолжает жизнь вот этих страшных шахмат, в которые уже играть невозможно. Для меня ключевая здесь опять же история — это, конечно, история с фламинго, которые играют в крикет ежами. Вот постоянное использование живых существ для какой-то страшной и жестокой игры — так бы я это, наверное, сформулировал.
Не говоря уже о том, что юмор «Алисы» — это юмор не веселый, юмор, не приветствующий своей целью получение комического эффекта. В этом юморе, наоборот, все время есть ощущение какого-то подавляющего и навязчивого ужаса. И комические эффекты здесь возникают, ну, как у обэриутов, возникают непроизвольно. У Ани Герасимовой (Умки) была замечательная диссертация о природе смешного у обэриутов. Смешное там побочно, оно не самоцельное. И «Алиса» совсем не смешная. «Алиса» — страшная. Вот это страшная сказка о девочке, попавшей в мир соблюдения бессмысленных умирающих принципов. Ну и конечно, то, что она там то уменьшается, то увеличивается — это тоже очень характерная примета тоталитарного социума.
Вот вопрос, на который мне, в общем, нечего ответить — Оля интересуется: «Может быть, есть ваша лекция по поводу романа Лескова «Соборяне»?»
Лекции нет. Был развернутый ответ в одном из «Одинов».
«Согласны ли вы с оценкой, которую дал Аннинский: «Читая этот колдовской текст, с изумлением соображаешь, что реальные события большей частью чепуховые. Анекдотцы, или, как сам автор нам подсказывает: ничтожные сказочки. Проницательная подсказка, однако, по-лесковски коварна. Ничтожность сказочек отсылает нас на иной уровень, где и решается художественное действие этого странного текста, навернутого на видимые пустяки. Суть — в том сложном, мощном, многозначном узорном речевом строе, сквозь который пропущены анекдотцы и сказочки»?»
Лев Александрович Аннинский в своей книге «Лесковское ожерелье» действительно все время проводит значимую для него и, наверное, действительно объективно значимую мысль о том, что главным героем лесковских текстов и главной ареной действий лесковских текстов является волшебный язык. Хотя, скажем, «Железную волю» или «Человека на часах» он анализирует, именно имея в виду суть текста, а не языковые его оформления.
Я должен признаться сейчас в одной особенности моего восприятия. Я не воспринимаю тексты, в которых язык является самодостаточным феноменом, тексты написанные ради языка. Для меня все-таки важнее всего то, что повествуется. То, как — это тоже очень важно, но это «как» должно быть подчинено «что», оно должно раскрывать его содержание, его тайные интенции и так далее. Язык Лескова — что называется, узорчатый, самоцветный (и каких только пошлостей о нем не нагорожено), — это, безусловно, великое художественное явление, но этот язык не столько помогает, сколько мешает рассмотреть главные лесковские конфликты.
Вот что касается «Соборян». Почему мне кажется принципиальным это пересечение двух текстов упомянутых рядом, в соседних письмах? Мир «Соборян» представляется мне таким же абсурдным и мрачным, как и мир «Алисы». Это мир торжествующего мрачного абсурда, мир, где действуют абсолютно непонятные для меня выморочные герои. Мне очень бы хотелось Лескова полюбить, полюбить такие его тексты, как, скажем, та же «Железная воля». Это для меня совершенно, так сказать, не проблема, это мне органично, это естественно.
Не обращайте внимание на периодически возникающие гудения телефона — это продолжают приходить вопросы, на которые я постараюсь оперативно отвечать. Люди-то не знают, что я в Штатах, и они вот думают, что я прямо сейчас и отреагирую. Ну, слава тебе, Господи, связь позволяет отреагировать прямо сейчас.
Так вот, возвращаясь к миру Лескова. Есть у него вполне рациональные тексты, но в принципе его восприятие реальности было восприятием глубоко здорового человека, который на каждом шагу видит абсурд. В этом смысле его талант, мне кажется, ближе к щедринскому. Просто Щедрин видит этот абсурд в общественной жизни, а Лесков — в церковной и провинциальной.
И для меня «Соборяне» — это прежде всего сатирический текст. И то, что там происходит — это очень щедринский, а вовсе, так сказать, не собственно лесковский синтез эмоций. Это ужас при виде этого абсурда и восхищение при виде его масштабов. Вот Ахилла, например, — это фигура совершенно безумная, с точки зрения любой нормы, она патологична. Представьте себе, что вы живете рядом с этим человеком. Это же немыслимо! А тем не менее именно Ахилла вызывает и у читателя, и у Лескова какое-то восхищение, восторг своей масштабностью, своей невероятной вот этой широтой и глубиной, ну и конечно, масштабом абсурда.
Поэтому в целом и «Соборяне», и «Захудалый род», и большая часть лесковской прозы — она, как мне кажется, балансирует на грани идиллического умиления и абсурдистского ужаса, такого кошмара, ну, как щедринская «Пошехонская старина». Ну, как бы Лесков — это такой, что ли, если угодно, более здоровый вариант Щедрина. Поэтому я не вижу в «Соборянах» никакого, так сказать, восторга перед русской жизнью, я вижу как раз ужас. Ну и если восхищение чем, то только тем, что страна такого абсурда продолжает быть устойчивой, существовать, что-то производить, в частности литературу. Вот это действительно заслуживает восторга. А у меня есть, тем не менее, ощущение, что Лескову очень было среди этой русской дури неуютно, что он потому так и любил Толстого, что толстовский рационализм в какой-то степени служил ему утешением, каким-то, если угодно, умилением.
Благодарят за «Июнь». Спасибо. «Эта история напоминает судьбу семьи Марины Цветаевой». Спасибо. Да, «зоркий глаз обнаружил, что у сарая нет стены». Не паранойя ли у меня? Нет, это все нарочно так сделано. Просто, понимаете… Вот как я спросил когда-то мать: «Почему в «Алмазном венце» Есенин назван королевичем?» Она говорит: «Потому что о Есенине он не может сказать ничего, а о королевиче — все».
Я ничего не могу сказать о Гуревиче, потому что это реальное лицо. И я боюсь задевать реальное лицо. Но о Гордоне, вымышленном персонаже, я могу говорить свободно и употреблять любые свои домыслы. Кстати говоря, ведь когда я писал «Июнь», я совершенно не был в курсе, что Гуревич был осведомителем. Я подозревал, что, работая на такой должности в журнале «СССР» или «СССР на стройке», он не мог не иметь контактов с соответствующими органами, и, более того, не имея этих контактов, он не мог бы поехать к Але в тюрьму, в лагерь. Видимо, это санкционировалось непосредственно НКВД. Но в том-то и дело, что у меня не было никаких догадок на эту тему. И только потом у многих я прочел, что такая версия существует. Это как-то пригрело мою художественную интуицию. Но то, что эта история, конечно, история Али Эфрон — это я никогда, собственно говоря, и не скрывал.
«Какие источники вы использовали?»
Видите ли, никаких источников, чтобы влезть в душу Гуревича, у нас нет, поскольку их переписка с Алей, если и сохранилась, то не опубликована. А думаю, что и не сохранилась, естественно. Большая часть того, что он ей писал — это либо изымалось, либо уничтожалось. Я представил себе просто более или менее этого человека в восприятии Мура, в восприятии Цветаевой. О восприятии Мура у нас есть прямые документальные свидетельства — его дневник. Но и Гуревич довольно легко достраивается, он как бы становится понятен отсюда: благородный человек, при этом все понимающий; такое замечательное дитя своей эпохи, которое при всем при этом сохраняет очень многие предрассудки этой эпохи, все-таки он человек двадцатых годов. И для меня очевидно, что он очень долго прятал от себя правду, очень многое не желал понимать.
Понимаете, какая вещь? Вот в России наблюдается один замечательный феномен, который подробно описан у Ямпольского в «Московской улице» и в других таких кафкианских текстах о природе страха. Это история, когда ты все понимаешь. Вот ты чувствуешь себя «серой шейкой», у тебя нет никаких сомнений в происходящем. Ты понимаешь, что берут вокруг тебя и следующая молния может ударить в тебя; когда ты понимаешь, что вся ситуация в любую секунду может разрешиться. И все это более чем понятно. И более чем естественно это понимать. Но до какого-то момента ты загипнотизирован, как кролик бывает загипнотизирован удавом. То есть против тебя действительно сама природная вот эта дикая сила, но ты при этом совершенно неспособен предпринять хоть какие то действия, которые бы, может быть, изменили твою участь.
Я спрашивал Валерия Семеновича Фрида: «Представьте себе…» Вот он ехал от девушки и знал, что… ну, предполагал, что на следующей станции поезда его могут взять. И его там взяли. «Представьте себе, что вы знаете это точно, наверняка, что вас возьмут. Вы бы не сели в этот поезд? Вы бы попытались скрыться?» Он сказал: «Нет. Мы все были загипнотизированы, как кролики удавом. Мы все думали до последнего момента, что авось обойдется. Мы все понимали, что есть шанс, есть возможность, при которой нас вот в любую секунду схватят. Но бежать куда-то, прятаться и пытаться выстроить себе подпольное существование — боже упаси! Это казалось еще страшнее, чем арест».
Кстати говоря, вот в романе Александра Шарова «Смерть и воскрешение Бутова, или Происшествие на новом кладбище», в любимом моем романе восьмидесятых годов, напечатанном посмертно, тридцать лет спустя, герой как раз предпринял такую попытку — он сумел уехать, бежать в Сибирь, менять там работы, устраиваться то на лесоповал, то в какую-то счетную контору, на разные должности; и выжил, пережил возможный арест. Но надо вам сказать, что эта жизнь в постоянном бегстве, в постоянном ожидании, что за тобой придут и сюда, ну, она была не многим лучше заключения. Хотя, конечно, свобода, как мы знаем, всегда лучше несвободы.
Поэтому, к сожалению, то, как эти люди смотрели гипнотически в глаза схлопывающейся вокруг них реальности — это очень понятно, очень объяснимо. Ну послушайте, а разве сегодня в России нам не понятно все, что происходит? Вот я, кстати, поражаюсь тому, что я сумел предсказать ситуацию с Малобродским, что очень может быть, что это окажется просто пытка надеждой, что его не выпустят даже после ходатайства СК, хотя СК вроде бы предъявил аргументы. А вот почему? А вот эта пытка надеждой очень для них притягательная, они любят это дело. И мы понимаем, кто они. Мы имеем с ними дело. Но почему-то мы все продолжаем все надеяться, что каким-то магическим необъяснимым образом пронесет. Хотя ясно совершенно, что путь лежит к катастрофе, и никакого выхода, кроме катастрофы, быть не может; уже все возможные развилки пройдены.
Очень странные ощущения… Мы потому и проживаем такую циклическую историю, что нам, собственно, дают почувствовать. У нас как бы исторические музеи существуют вокруг нас. Вся сегодняшняя Россия — это огромный исторический музей. Правда, в ней много и того, что беспрецедентно, того, что не бывало, уровень абсурда качественно нов, но интенции все абсолютно прежние, и персонажи абсолютно прежние. Понимаете, очень многих я узнаю из тех, про кого я уже читал в «Софье Петровне», в «Детях Арбата».
«Какой смысл путешествия капитана Уилларда в логово полковника Курца в фильме Копполы «Апокалипсис сегодня»?»
Ну, видите, Андрей, тут собственно довольно очевидная история — тут как раз путешествие вглубь безумия. И очень сильно отличается этот фильм от литературного оригинала, от «Сердца тьмы» Конрада. Это именно… Ну, метафорически это, ко
echo.msk.ru
Дмитрий Быков — Один — Эхо Москвы, 02.11.2018
Д.Быков― Привет, братцы! В эфире «Один» с Дмитрием Быковым. Эфир, естественно, прямой. Тут уже пришел на почту с таким подъерзом вопрос: «А что же вы не на празднике «Эха»?» Видите, я действительно, во время прямого разговора с вами, когда я физически ощущаю ответную волну интереса, я, что ли, лучше провожу время, нежели на коллективной попойке. Даже это не попойка там, скорее, сеанс группового общения. Не то чтобы я с годами становлюсь социальным аутистом – конечно, я поздравляю «Эхо» с днем рождения, я просто боюсь там застать очень много людей, с которыми на одном гектаре мне как-то присутствовать затруднительно. Для «Эха», наверное, нужно их приглашать, чтобы быть в курсе, чтобы ньюсмейкеры бывали, чтобы фоторепортаж выложить. Мне это совершенно необязательно, и я, вот ей-богу, гораздо больше удовольствия в вашем пристальном и придирчивом обществе.
Что касается темы лекции – сегодня большой разброс тематический. Одни просят Давида Самойлова. Мне эта тема проще, потому что у меня как раз в «Дилетанте» следующий персонаж – Самойлов, и я довольно много о нем думал в последнюю неделю, пока эту статью сочинял. Но я обещал «Хаджи-Мурата», и слово хочу сдержать. Кроме того, просят Ремизова – два человека, они постоянные слушатели, и, поэтому, мне их мнение тоже дорого. Поэтому кто обгонит в читательском голосовании – тот и молодец.
Понятное дело, я всех приглашаю на фестиваль в «Прямой речи», с 8-го по 11-е включительно, четыре дня, в «Гоголь-центре», четыре выдающихся артиста – Ширвиндт, Юрский, Дапкунайте и Высоцкая – читают свои любимые тексты, я по мере сил как-то их комментирую и с ними разговариваю, хотя мое присутствие там чисто номинальное, я – ведущий этих вечеров. Но приходите. Будет ли действовать волшебное слово – не знаю, это же не наш лекторий, где оно действует всегда. Но билеты пока доставаемы.
11 ноября, насколько я помню, будет Денис Драгунский в ЦДЛе. И туда я выберусь обязательно, хотя бы после «Гогль-центра», хоть краем глаза. Потому что выступление Драгунского, особенно с творческими вечерами – это порядочная редкость. Сегодня он в Питере с таким вечером, и он же благополучно закончился, а вот через неделю с небольшим, 11-го, будет читать в Москве. Мне кажется, что слушать Драгунского совершенно необходимо. Заодно в 10-м «Октябре» горячо рекомендую вам несколько отчаянных, горьких рассказов его сестры Ксении. Все-таки из всех писательских семей, фамилий, эта представляется мне (еще Смирновы, конечно, но они, скорее, кинематографисты) самой густой, самой значительной в плотности талантов на семью.
Ну, что же? Поотвечаем немножко на вопросы. «Когда мне отказывают во взаимности, меня почему-то это радует больше, чем когда отвечают. Печальный опыт я перевариваю, он мне больше дает. К чему же я иду?»
Илья, вы попадаете под ту же категорию людей, которую очень четко, но, может быть, не очень благожелательно охарактеризовал Пастернак, сказав: «Вы покупаете себе правоту неправотою времени». Да, вы покупаете себе правоту несправедливостью людей. Кто-то к вам относится без взаимности, иногда несправедливо не любит, и за этот счет вы больше нравитесь себе. Это такая довольно русская черта. Очень многие любят Россию именно потому, что на фоне несправедливости власти и эпохи они всегда более белоснежные, они всегда хорошие. Так что черта ваша очень распространенная. Но она довольно опасная, потому что ситуация нравственного дискомфорта каким-то образом становится для вас источником самоуважения. Мне кажется, что проблема вся в самоуважении. Поэтому все-таки, лучше стремиться к взаимностью, пониманию, любви, и так далее. Я понимаю, что говорю сейчас азбучные вещи, что называется, «спасибо, Кэп». Но я очень часто наблюдаю во множестве людей то, что для них неудача – это то, что, как писал Слуцкий, «запланированная неудача». Это тоже он за собой знал, и это не очень оптимистическая, не очень перспективная черта, когда для человека карьерная проблема, какие-то его неудачи в общении, его одиночество, его изгойство становятся, что ли, источником его правоты, чувством правоты. Я боюсь, что это неправильно.
При том, что я и за собой знаю этот соблазн. Именно поэтому я могу вам ответить. Так бы я, конечно, сказал: «Как это прекрасно, что вы ищете проблему!» «Как это хорошо, что из неудачных, из трагических отношений вы умеете извлечь для себя пользу». На мой взгляд, ничего хорошего в такой ситуации нет. Я вам от души желаю найти себя в гармоничных отношениях.
«Есть ли у вас рецепт, как творческому человеку избежать обвинений в плагиате? Многие авторы мучаются по поводу вторичности». Во-первых, как сказал Владимир Новиков: «Во времена постмодерна первичности быть не может, есть более или менее отрефлексированная вторичность». Можно соглашаться или не соглашаться, но человечество накопило некий культурный багаж, поэтому ему затруднительно что-то сказать впервые.
Что касается конкретного совета. Лет в 14, что ли, у меня был такое стихотворение, которое заканчивалось словами: «Пиши, приятель, только о себе, – все остальное до тебя сказали». Боюсь, что это правильная точка зрения, то есть она с тех пор у меня не изменилась.
Все сказано, и даже древний Рим
С пресыщенностью вынужден мириться.
Все было, только ты неповторим,
И потому не бойся повториться.
Это такая немножко дидактическая поэзия, присущая юности. Мне кажется, что, поскольку вас еще не было, выражайте себя. Тем самым, вы, пожалуй, рискуете кого-то разозлить, кого-то обидеть, но, по крайней мере, не рискуете повторяться.
«В мемуарной книге «Канатоходка» Наталья Варлей рассказала о своей матери, которая в течение жизни не интересовалась поэзией, а в старости вдруг увлеклась. Почему пожилые люди тянутся к поэзии? Поэзия помогает им переосмыслить прожитое, или служит утешением?»
Нет, знаете, очень многие по причине трусости, что ли, тянутся к религии в старости. К поэзии тянутся люди более высокоорганизованные. Понимаете, старческий приход к религии очень часто бывает следствием пересмотра жизни и отсутствия духовной опоры. Такой приход к религии, на мой взгляд, все равно надо приветствовать. Но это все равно не то, что труд души по обретению веры, это какой-то механистический процесс.
А вот если человек в старости потянулся к поэзии – это, мне кажется, признак высокой души. Потому что в старости – я это сужу по себе – отсеивается второстепенное и начинает интересовать главное. Это как на известной картине Моне «Руанский собор», если я ничего не путаю. Там же разные стадии абстракции, абстрагированности, под конец – просто схема. Или у позднего Пикассо, когда он говорил: «Я в двадцать лет умел рисовать, как Рафаэль, но к семидесяти научился рисовать как пятилетний ребенок». Вот эта любимая моя фреска на Архитектурной академии в Барселоне гениально сделана: вы отходите на 5 метров, и видите сельский праздник, хотя, когда приближаетесь, видите детские каляки. Вот это гениально, потому что каждая линия абсолютно точна. И мне кажется, что в старости происходит нечто подобное: отсеиваются второстепенные вещи, и н
echo.msk.ru
Дмитрий Быков — Один — Эхо Москвы, 06.03.2018
Подписывайтесь на YouTube-канал «Эхо Культура»
Д. Быков― Поехали! Добрый вечер, дорогие друзья. Простите, что в этот раз мы встречаемся вне расписания, так получилось, что в четверг я улетаю в командировку. Несколько вас заинтригую: я лечу встречаться, вероятно, с самой умной женщиной, которую я когда-либо встречал, и одной из самых красивых, безусловно. Если все у нас получится, мы договорились встретиться как раз 9 марта, мы сделаем недурное интервью. Если как-то не получится по разным обстоятельствам, это будет один из самых жестоких обломов в моей личной жизни. Думаю, что вас ожидает чрезвычайно увлекательный разговор. Попутно я заеду прочитать лекцию одну в маленькую европейскую страну, и после этого вернусь, и мы продолжим встречи уже по четвергам.
По обещанию, я вынужден, хотя я и долго колебался между двумя своими обещаниями, между Висконти и Набоковым, я все-таки решил поговорить о «Бледном огне». Потому что «Бледный огонь», наверное, величайший роман Набокова, я ставлю его даже выше «Лолиты», и уж точно выше «Ады». Я думаю, это самое задушевное его создание. И любопытно, что это мое мнение совпадает с оценкой одного из моих любимых авторов, Михаила Ефимова, замечательного филолога, с которым мы сейчас для «Сноба» подготовили довольно занятный диалог о Мирском. А вообще для меня такой важный критерий читательского качества — это отношение людей к роману «Бледный огонь», роману чрезвычайно сложному, очень хитро придуманному и, пожалуй, не имеющему аналогов в мировой словесности. Во всяком случае, среди американской профессуры этот роман значительно популярнее и, я бы сказал, любимее, чем весь остальной Набоков.
«Прочитал «Исповедь» Августина, — спрашивает Тимофей, — и считаю эту книгу шедевральным дневником человека, страстно ищущего бога. Ваше мнение по этому труду, и что вы можете посоветовать из литературы на тему поиска создателя?»
Тимофей, вообще «Исповедь» Блаженного Августина стабильно входит в пятерку моих любимых книг. Для меня очень важно, что как русская литература начинается с «Жития протопопа Аввакума, им самим написанного», начинается с Аввакума Петрова, точно так же начинается европейский роман воспитания с «Исповеди» Блаженного Августина. Я вот только сейчас детям в очередном лекционном курсе это рассказывал, подросткам. И они с неожиданной радостью как-то очень живо ухватились за Блаженного Августина. Ведь из Блаженного Августина, понимаете, вышли и Руссо, и Пруст, и Флобер, «Воспитание чувств» уж точно. Все романы воспитания европейские вышли из Блаженного Августина.
Я не говорю уже о том, что интонация разговора с богом, которую он нашел, интонация исключительно непосредственная: «Я написал там еще несколько сочинений, я их потом потерял. Ну ты, Господи, знаешь», — вот это такая интонация уважительного, почти сыновнего собеседничества, без фамильярности, но с глубочайшим доверием, она не то что поможет кому-то уверовать, нет. Но она введет вас в состояние, в котором уверовать проще. Две только такие книги я могу назвать, которые вводят в это христианское состояние души. Что бы там Юлия Латынина ни говорила о христианстве, я бесконечно ее уважаю, но никакой ИГИЛ, который запрещен, разумеется, у нас, с которым она иногда сравнивает некоторых радикальных христиан первых — никакой ИГИЛ такой интонации человеку не дает.
Первая такая книга — «Исповедь» Блаженного Августина, вторая — «Иисус Неизвестный» Мережковского. Читая эту книгу, вы не то что понимаете Христа, вы подвигаетесь к христианству. Я вообще люблю книги, которые не объясняют, не рассказывают — которые вводят в состояние, такая, если угодно, литературная психоделика.
Из других, конечно, Руссо, «Исповедь», безусловно, это уж как хотите, и там автор неприятный, ничего не поделаешь, но страшно обаятельный и по-человечески бесконечно понятный. Из других таких книг я назвал бы довольно неожиданно Хьортсберга, «Падшего ангела», из которого сделано «Сердце ангела». Вот уж книга о поиске бога, которая напрямую реализует одну из главных интуиций Блаженного Августина, вот в формулировке Андрея Кураева: «Господи, если бы я увидел себя, я бы увидел тебя». У Августина сказано чуть иначе: «Господи, где мне было видеть тебя, когда я не себя не видел?» — но, в общем, это одно и то же. Вот найти себя — это довольно такая сложная и неоднозначная, в сущности глубоко теологическая задача, коль скоро мы ищем в себе образ божий.
Неожиданную сейчас вещь скажу: из других книг, которые довольно резко способны подвинуть человека к поиску бога, я назвал бы роман Стайрона «И поджег этот дом», самую религиозную американскую книгу, которую я знаю. Роман более религиозный, чем «Моби Дик».
Вот тут, кстати, пришел на почту вопрос, что я вкладываю в понятие великого американского романа. Это не я вкладываю, это есть такие конвенциональные вещи, признанные везде. Великий американский роман, во-первых, имеет ясную библейскую сюжетную прооснову, и это все очень видно в «Моби Дике». Во-вторых, он обладает энциклопедическим содержанием, содержит огромное количество сведений таких универсальных, из всех областей жизни, как «Радуга гравитации» Пинчона, как макэлроевские «Женщины и мужчины», где тоже такой роман-энциклопедия, на полторы тысячи страниц, как «Infinite Jest» Уоллеса, и так далее.
И в-третьих, это нелинейная наррация, потому что в американском романе такого сквозного монотонного повествования не бывает, там либо очень много флешбэков и флешфорвардов, и отступлений, как в «Моби Дике», либо там чрезвычайно сложные игры со временем и с композицией, как у Уоллеса. Либо это вообще, как у Уоллеса в «Бледном короле» (тоже, кстати, такой наш ответ на «Бледный огонь»), со страшной силой перетасованы все эпизоды, и как учил нас Уоллес, каждый прилетает с неожиданной стороны. Но это мы отвлеклись на американский роман.
А вот именно богоискательская тема из всех американских романов, мне известных, наиболее страшно, радикально и наглядно решена в романе «И поджег этот дом». Во всяком случае, от отвращения к себе один шаг до истинной веры.
«Пожалуйста, повлияйте на оперативную выкладку текстов вашей передачи».
Саул, дорогой, если бы я мог на это влиять. Тут героические люди отчаянные занимались расшифровками этой программы, делали это бесплатно, но, видимо, на всякое подвижничество есть чувство меры и голод. И так до сих пор и не нашлось другого энтузиаста. Сам бы расшифровывал, но тогда у меня не останется времени писать.
«Бахтин пишет, что в произведениях Пруста субъективное время можно уложить в ореховую скорлупку и растянуть на любое количество томов. В продолжение приводятся Джойс, Хемингуэй, литература потока сознания. Как это связано с произведениями эпохи Твиттера и Инстаграма?»
Олег, произошла довольно радикальная смена парадигмы. Пруст написал единственную в своем роде книгу, подражать которой невозможно, он повесил за собой кирпич. Я не думаю, что литература потока сознания или литература такой джойсианской пестроты и метода, или уж тем боле джойсианская литература на таком макароническом метаязыке, как «Finnegans Wake» — я не думаю, что это сегодня возможно. У меня есть, наоборот, стойкое ощущение — очень горькое, кстати, ощущение — что когда «Поминки по Финнегану» наконец появятся по-русски, а насколько мне известно, наиболее продвинутый переводчик перевел уже треть романа, они не произведут никакого впечатления. Ну, «Поминки по Финнегану» — это великий текст, пока он загадка. А когда вы начинаете его читать, и примерно понимаете, про что там…
Я помню, Гениева, когда выступала на журфаке, а она все-таки была главный такой джойсианец и джойсовед наряду с Хинкисом, с Хоружим — она сказала, что как только вы продеретесь хоть немного сквозь язык «Поминок по Финнегану», вы поразитесь абсурдности и при этом бледности содержания этой книге. Ну, спят четыре человека: отец, дочь и двое сыновей. Мать не спит, мать вообще река, она течет сквозь все это пространство. Кабак называется «Here comes everybody» — «Сюда приходят все». Отцу снится, что он растлил дочь, и сейчас его будут за это судить. Сыновья выясняют между собой какие-то физические, химические, математические проблемы, довольно скучные. Дальше происходит попутно путешествие по музею всей человеческой истории. Она довольно смешная книга именно с точки зрения языка, с точки зрения замечательных языковых игр. Но в ней ничего особенного не происходит. И больше того, ничего, кроме этого ночного языка, как пишет Кубатиев, языка безумия джойсовской дочери, там ничего собственно интересного и нет.
Я вам больше скажу, мне кажется, что и у Пруста ничего особенно интересного нет, потому что это очень трогательно, конечно, что он восстанавливает утраченное время, но кой черт мне дело до его насыщенной жизни, кстати, даже не особенно и насыщенной? Когда дело дошло до «Пленницы», до «Беглянки», там мне стало интересна такая скрежещущая ревность, а в остальном это довольно бледное сочинение, как мне кажется, простите меня.
Поэтому давайте вместе порадуемся, что великая литература модернизма отошла в прошлое. Сейчас время коротких книг, коротких высказываний. Я это говорю как человек, написавший несколько очень длинных книг, и понимающий, что, наверное, я был безжалостен к читателю. Почему время таких книг наступило коротких, размером с уже упомянутую «Лолиту» или с «Бледный огонь»?
Набоков написал огромную «Аду», и «Ада» — самый нечитаемый из его романов, хотя бы потому, что это огромное эссе, количественно небольшое, но очень занудное, про текстуру времени, составляющее четвертую часть — это, конечно, софистика совершенно голимая и ничего не прибавляющая к нашему пониманию времени, такое старческое забалтывание бездны. Тогда как первые две части замечательны своей физиологической страстностью, прекрасной совершенно героиней, которую он зря, по-моему, называл шлюшкой.
Иными словами, время таких титанически больших, титанически сложных текстов ушло. И мне кажется, что великие бестселлеры ближайшего будущего будут размером с «Гекльберри Финна», не больше. Это связано не с тем, что сейчас эпоха клипа, или Твиттера, или Инстаграма, а с тем, что ускоряется все, и ускоряется в том числе чтение. Поэтому я в общем даже как-то отчасти рад, что пристанская эпоха завершилась.
Я очень надеюсь, что Кушнер меня сейчас не слушает, потому что Александр Семенович считает Пруста главным и самым поэтическим текстом XX века, я этого никогда не понимал. Я, кстати, вспоминаю, как Кушнер цитировал замечательную фразу Лидии Яковлевны Гинсбург: «Есть три признака, по которым можно определить гея — это любовь к Кузмину, Прусту и балету». На что он добавлял с такой ядовитой усмешкой: «Видимо, меня спасает то, что я не люблю балета». Вот здесь такое ощущение, что не то что спасает, от чего тут особенно спасать, но как-то, скажем, ограничивает. Пруст представляется мне главным мифом XX века, подобно Бунину, я не могу это принимать всерьез. Хотя понимаю, что это, наверное, великая проза.
«Поясните связь притчевых жанров в кино и в литературе».
Это разные совсем жанры. Вопрос очень хороший. Понимаете, притча в кино прежде всего определяется абстрактностью происходящего. Действие происходит в такой пустоте. В кино этого достичь очень трудно, потому что кино — грубое материальное искусство, имеющее дело с реальностью. В кино очень трудно изобразить разреженный воздух притчи. В притчах действие помещено в абстракцию, оно происходит нигде и никогда. «Притчу» Фолкнера, роман Фолкнера «Притча», для того чтобы его экранизировать, такой метавоенный роман, который происходит на всеобщей, всемирной бесконечной войне — я не знаю, кем надо быть. Маликом, наверное, надо быть. И то я не думаю, что это возможно. А притча в кино всегда получается ложно многозначительной, как первые два фильма Звягинцева. Мне кажется, чем дальше он уходил от притчи, тем лучше у него получалось.
А единственная притча в кино, которая, по-моему, получилась идеально — это «Парад планет» Абдрашитова и Миндадзе, где есть условный город женщин, условная река, условные военные сборы. Такое пространство только Абдрашитов умеет создавать, такой почти вакуум. И мера условности там соблюдена изумительно.
В литературе это гораздо проще, в литературе обобщение дается легче, да и вообще в литературе поместить героя в разреженное пространство — это довольно элементарно. Вот пишет Домаль «Гору Аналог» — это притча. А попробуйте снять «Гору Аналог» — и это будет история о восхождении альпинистов, это будет «Вертикаль». Поэтому я не знаю, это надо обладать каким-то особенным чувством, особенной такой способностью переносить действие в совершенно сказочное небывалое пространство. Ну знаете, скажем, как «Смерть в Венеции» Висконти. Потому что это не про Венецию, а это про смерть. Вот это действительно мы попадаем туда и понимаем, что сейчас Ашенбах будет умирать, это как бы написано на всем — на воде, на причале, на всем. Хотя я не люблю совершенно эту картину, она, по-моему, дико занудная, но я понимаю — это гениально. Я бы даже рискнул сказать, что задача Томаса Манна решена там лучше, чем у Томаса Манна. Это случай совершенно беспрецедентный.
«В какие моменты мысленный собеседник важнее реального?»
Тогда, когда вы не выносите людей. Это бывают такие состояния. Помните, у Бродского сказано: «Даже во сне вы видите человека». Иногда я, например, могу вести только мысленные разговоры. Иногда даже с теми людьми, которых я люблю. В этом смысле я довольно богат, у меня есть человек пятьдесят хороших друзей, человек десять очень близких друзей, и человек пять — ближайших, которых я могу видеть в любом состоянии. Слава богу, моим отношениям с ними не угрожает ничего, мы можем придерживаться любых взглядов, но мы друг другу необходимы.
Тем не менее бывают состояния, когда даже этих людей я не хочу грузить собой. И тогда я мысленно разговариваю с ними. Это потому, что не во всяком состоянии бываешь терпим, не во всяком состоянии бываешь приемлем. Мне, честно говоря, стыдно, когда я совершенно неспособен собраться, когда я зануден, мне довольно стыдно грузить собой людей. В этом состоянии я предпочитаю мысленные диалоги или чтение каких-нибудь совсем уж легких англоязычных детективов.
«Что вы можете посоветовать прочитать на тему верной дружбы, и почему так часто разрывы бывших друзей в книгах и в жизни?»
На тему дружбы лучшее, что я могу посоветовать — это «Я, бабушка, Илико и Илларион» Думбадзе. Наверное, самый трогательный диалог… Там дело в том, что два героя этой книги, два таких трогательных старика, из них один одноглазый, и все время один другого дразнит одноглазым. А потом он сам лишается глаза, и чем больше он переживает, чем больше он комплексует из-за этого, тем больше он издевается в застолье над этим другим. А потом тот говорит: «Да ладно, не переживай, я заметил, ничего страшного. Проживешь». И вот этот диалог, он такой печальный и такой бережный взаимно, что просто слезы.
Из других сочинений про дружбу довольно скептический и замечательный совершенно рассказ Валерия Попова «Любовь тигра». Очень мне нравится, кстати говоря. Потому что это тоже такая своеобразно понятая дружба. И ужасно мне нравится, конечно, у того же Попова «Жизнь удалась», где два его друга, Леха и Дзыня, сопровождают его. «Похождения двух горемык» — прелестная повесть его же.
Вообще дружба, она трудно дается, потому что это и вещь довольно редкая. «Что дружба? Легкий пыл похмелья иль покровительства позор» — сказал Пушкин на эту тему. Ну, мне, слава богу, это ощущение знакомо. Кстати говоря, у Наума Нима в книге «Господи, сделай так» замечательные совершенно друзья.
«В преддверии Международного женского дня прочитайте, пожалуйста, «Когда бороться с собой устал…».
Я, наверное, под занавес первого часа прочитаю. Спасибо, что заказываете.
«Можете ли вы прочесть «Ex Portland»?»
Вот это очень приятно. Это пишут, видимо, люди из Бостона, потому что я больше нигде это произведение пока не читал. А его я не буду читать, извините. Во-первых, оно пока не напечатано. А во-вторых, у меня сейчас хорошее настроение, а это стихотворение совершенно ему не соответствует. Но такое стихотворение «Ex Portland» у меня действительно есть, это такая вариация на тему «Ex Ponto». Я надеюсь, его в ближайшее время напечатают. Но спасибо, что вы на него обратили внимание.
«Намедни думал, и пришла в голову мысль: а ведь одна из основополагающих скреп сегодняшней России, как и прошлого СССР, это внешняя угроза».
Rexis, дорогой друг, это не российская скрепа, это скрепа универсальная. Другое дело, что Россия, я об этом недавно писал, она такая страна эмоциональная в достаточной степени. Она любит не идеи и не убеждения, а любит она эмоции. А одна из самых популярных эмоций — это именно вот такое наслаждение своей плохостью, как бы мы самые плохие, но мы вам сейчас покажем, потому что в душе мы самые хорошие. Это эмоциональное наслаждение, описанное у Достоевского в «Записках из подполья», извлечение самого сладкого сока из унижения, такое довольно опасное чувство, оно и есть главная духовная скрепа. Жать на эту педаль можно бесконечно, она и есть главное секретное оружие Путина. Почему Россия так легко ловится на этот соблазн, именно Россия? Ну, наверное, потому, что обычная жизнь тут очень мало стоит. И поэтому расстаться с нею по любому поводу — это милое дело.
Возвращаясь к теме того же Мирского, Ярослав Смеляков памяти его посвятил довольно гнусненькое такое стихотворение. Святополк-Мирский — это лучший русский литературный критик XX века, который после эмиграции в тридцать втором году вернулся, возвращение такое. Сменовеховец, евразиец, патриот Советского Союза большой, погибший, естественно, в лагере в тридцать девятом году (в тридцать седьмом его арестовали). Это не помешало затребовать его обратно в Москву во время дела Эфрона, но он уже четыре месяца как был мертв. Так вот, он погиб, как Мандельштам, на Дальнем Востоке, даже где-то по соседству с ним. Их судьбы совершенно параллельны.
И вот я подумал, что в этом стихотворении Смелякова как раз выражено очень внятно вот эта эмоция: «Но лучше уж русскую пулю на русской земле получить». Лучше, чем что? Лучше, чем жить? Лучше, чем умереть своей смертью, лучше, чем получить пулю за границей? Большая разница, конечно. Я главное не могу понять, а что, Родина ничего не может предложить, кроме пули, своему истинному патриоту? Вот тому, кто любит Родину, полагается русская пуля на русской земле. А кто не хочет пулю, тот не русский. Гнусное совершенно стихотворение, вы почитайте его, оно есть в сети. Оно показывает, что Смеляков, трижды отсидевший, он под старость впал в стокгольмский синдром. Он начал обожествлять тиранию.
Дикое совершенно стихотворение «Петр и Алексей», там: «По-мужицкому широка, в поцелуях, в слезах, в ожогах императорская рука. Молча скачет державный гений по земле — из конца в конец. Тусклый венчик его мучений, — имеется в виду Алексея, — императорский твой венец». Это опять личность, ничтожная перед лицом императорского венца, императорского всадника. И еще более жуткое стихотворение «Трон», где он сел на трон Ивана Грозного, и там: «И молния веков меня, — чего-то там, — прожгла». Это и есть стокгольмский синдром. Человек, которого эта власть трижды сажала, стал лобызать руки этой власти.
Вот почему-то эта эмоция очень в России распространена. Это и с Достоевским случилось, тоже стокгольмский синдром. Я думаю, это от шока, который, когда сажают невиновного, он в первый момент испытывает шок, а потом пугается так, что начинает видеть в этом величие.
«Расскажите, пожалуйста, о писателе и букинисте Станиславе Рубинчике».
Я от вас впервые слышу о нем, почитаю теперь.
«Почему так незаслуженно забыт Константин Паустовский, один из самых порядочных и одаренных писателей своего времени?»
Так видите ли, Василий, он совершенно не забыт. Вот неделю назад о нем спрашивали в эфире, постоянно приходят о нем вопросы. Он очень недурно раскупается, сейчас издали в двух томах «Повесть о жизни», все шесть частей, и вполне себе Паустовский популярен. Надо сказать, что у меня к нему отношение такое восторженное, с одной стороны, я упоминал уже его рассказ «Соранг», менее пронзительную, но от этого не менее лиричную и талантливую «Мещерскую сторону», всякие «Барсучий нос», «Золотой линь», «Шкатулка мастера Гальвестона» и так далее. Он совершенно замечательный писатель. Но, к сожалению, той крепости, того летучего спирта, который есть у Грина, у него нет. Того остроумия, которое есть у Бабеля, тоже у него нет. Это немножечко все-таки вода на киселе. Притом что он был писатель с колоссальными потенциями, замечательным талантом. И вот редкий случай: чем старше он становился, тем лучше он писал.
Вот Веллер считает, что Паустовский — это слишком красиво, поэтому выдумано. Не везде слишком красиво. Действительно, вы правы, в описаниях природы нет ему равных. Он такой, мысли, мне кажется, там мало. В «Золотой розе» она есть, а вообще он именно изобразитель. Он не мыслитель и он не психолог, хотя «Телеграмма», конечно, выдающийся рассказ.
«Что вы думаете о стихах Дениса Туманова?»
Опять, к сожалению, не знаю. Понимаете, очень много вещей, которых и не могу я знать. Но у меня сейчас будет краткая пауза такая рекламная, и я посмотрю стихи Дениса Туманова, и выскажусь о них со всей полнотой. Услышимся через три минуты.
РЕКЛАМА
Д. Быков― Продолжаем разговор.
Посмотрел я стихи Дениса Туманова. Пять стихотворений успел я посмотреть за это время. Автор, судя по всему, очень молод, может быть, какой-то прок появится. Пока это неинтересные стихи. Вот в них есть и темперамент, и некоторое начальное владение формой, но в них нет сюжета внутреннего и нет мысли. Возможно, это все появится. Все зависит от того, сколько автору лет. Если ему восемнадцать — у него блестящие перспективы; если двадцать пять — уже довольно сомнительные; если тридцать — никаких. Мне кажется, что думать надо, это очень важная вещь в литературе. Посмотрите концентрацию мысли в лучшей лирике, совершенно не обязательно наличие там философии, обязательно какое-то личное высказывание, которое бы этого человека для меня определяло, вот то, что Слепакова называла своячиной. Здесь я пока, к сожалению, ничего подобного не вижу, и это заставляет пролистывать стихотворение, не дочитывать его. Внутренний сюжет не простроен. Желаю автору удачи.
Я тут, кстати, вспоминал недавно, я принес свои стихи в четырнадцать лет в «Юность», и там сидел Виктор Коркия, один из моих любимых поэтов. Я хорошо довольно знал его стихи, потому что дома было много всякого самиздата, в том числе Коркии тоже. Но по-настоящему я стал знакомиться с его текстами уже, конечно, в кабаре Алексея Дидурова. Он меня очень ободрил, и я Виктору Платоновичу до сих пор за это глубоко благодарен, тем более что он до сих пор один из моих любимых авторов. И вдруг пришли Евтушенко с Олегом Хлебниковым. Олег был еще совсем молодой, и он этой встречи, конечно, не помнит. А Евтушенко ее запомнил, как ни странно. Он со своей обычной жадностью прочитал тут же мою подборку и сказал: «Да-да, все это очень мило, но вы поднимаете небольшие штанги. Надо поднимать большие штанги». Я говорю: «Мне кажется, я еще мал большие штанги поднимать». На что он сказал: «Вам сколько лет? Четырнадцать? Вот сейчас самое время. Учтите, продукты старения накапливаются в организме с двадцати четырех лет». Это очень на меня подействовало, с тех пор я стал, как мне кажется, ну не поднимать, но стал стремиться к проблемам более радикальным.
«Хочу написать биографию Григория Горина. Какие основные моменты при написании биографий, кроме поиска достоверных дат и проверки событий как минимум из двух источников посоветуете вы учитывать?»
Ну, видите ли, Игорь, тут две вещи, которым я обычно пытаюсь учить, хотя какой из меня в этом смысле учитель. Но две вещи, которым я пытаюсь учить начинающих, когда мы на Creative Writing School учимся писать биографии. Во-первых, вы должны найти лейтмотивы этой биографии и ее инварианты. Сквозные повторяющиеся в ней ситуации. Вообще единственный способ понять себя и понять свою жизнь — это вычленить в биографии те моменты, которые повторяются. Как учит нас Радзинский, если вас оставили на второй год, значит, вы чего-то не поняли.
У меня в жизни, я совершенно не делаю из этого тайны, довольно долго повторялась ситуация мучительного такого раздвоения, это и в первом браке было, когда я вел такую официальную жизнь, а была какая-то жизнь тайная, подпольная — подпольная любовь. Наверное, мне зачем-то это было нужно, это так меня раздирало на части. Может, мне нужны были угрызения совести, с этим сопряженные. Многих хороших людей — и нехороших, кстати, тоже — я этим измучил. Как только я поймал этот инвариант, как только я понял, что в определенных моментах эта ситуация повторяется, я с этим закончил.
Я научился этого избегать. Потому что эта ситуация, повторяясь, не приносила ничего нового. Наоборот, она меня, к сожалению, истощала, она меня ставила в некоторый моральный тупик. И вообще я не люблю повторов, повторяющихся циклических ситуаций не люблю. Поэтому и российский цикл меня в общем раздражает, бесит, потом что эта цикличность, к сожалению, не приводит к переигрыванию ситуации на новом качестве, на новом уровне. Наоборот, она приводит к деградации. Этот круг все уже, и это и труба ниже, и дым жиже.
Поэтому вы должны найти в каждой биографии такие сквозные мотивы. Вот, скажем, в биографии Горина, как мне представляется, такой мотив был — постоянная смена амплуа и тематики, чтобы не впадать в тот самый повтор и не эксплуатировать свои находки. Вы знаете, вероятно, что «Горин» расшифровывается как «Григорий Офштейн Решил Изменить Национальность». Это совершенно общее место, и он этого не скрывал. Горин менял очень резко род занятий — с медицины на прозу, с прозы на драматургию, резко менялись темы его драматургии. Вы знаете, он же умер как раз накануне огромного перелома, он заканчивал пьесу о царе Соломоне, которая должна была его прозу и его драматургию перевести в совершенно новое качество. Мы не будем сомневаться, я думаю, не будем спорить, что все-таки в его поздней драматургии возникала определенная эксплуатация уже готовых приемов.
Он был таким нашим советским Шварцем, поздним советским Шварцем, но при этом более радикальным в каких-то отношениях, более жестким, более циничным, менее сентиментальным гораздо. И сотрудничество Захарова и Горина, оно приводило к появлению какого-то нового качества, когда балаган-балаган — и вдруг трагедия. Особенно наглядно это было, все любят «Мюнхгаузена», я «Мюнхгаузена» люблю меньше, а «Свифт», который не зря же лег на полку. Вот «Дом, который построил Свифт», который три года не выходил — это самая жесткая и точная его драматургия. Кстати, «Шут Балакирев» тоже.
И вторая вещь, которую надо помнить — вы должны найти аттрактанты, то, что будет цеплять читателя, приковывать его к книге. В жизни Горина таких эпизодов не очень много. Я знал Григория Израилевича, мы были знакомы. И я, тогда начинающий поэт, был обласкан его очень хорошим отношением. И он в интервью со мной бывал довольно откровенен, как мне кажется. Арканов нас познакомил. А мне кажется, что Горин при всей своей закрытости был человеком, во-первых, необычайно ранимым, что и привело к его такой ранней смерти от инфаркта, а во-вторых, человеком внутренне при всей своей кажущейся мягкости довольно бескомпромиссным, довольно жестким.
Он наиболее личным своим произведением, самым автобиографическим, называл «Случай на фабрике № 6» (я, может быть, путаю). Там история была о том, как инженер, интеллигентный человек, работая на этой фабрике, не мог с работягами договариваться, потому что не умел материться. И работяги эти наняли ему репетитора, который учил его мату и начитывал ему лингафонные пленки. И вот (сохранилась запись магнитофонная) они сидят и учатся материться. И когда потом во время очередной ссоры с работягами умер этот инженер от инфаркта, вот этот рабочий-репетитор приходит на радиоузел, в радиорубку заводскую, и объявляет: «Умер инженер такой-то, хороший был человек», — и запускает эту пленку, на которой он неумело, запинаясь, произносит матерные реплики. И все встают, все в этой столовке молча встают.
И вот Горин говорил, что, может быть, какая-то самая удачная сцена в моей литературной жизни, катарсис — это звучит «твою мать», и все встают. Это очень сложная сцена, очень амбивалентная, потому что можно это понять как осуждение грубости жизни, а можно, наоборот, как гимн бессмертию и жизненной силе русского мата — очень по-разному. Но ощущение: «твою мать», и все встали — это Горин. Пожалуй, я вам это могу порекомендовать.
«Успели ли вы уже прочитать «Люди среди деревьев» Ханьи Янагихары?»
Нет, не буду. Я прочел «Маленькую жизнь», мне хватило. «Маленькая жизнь» мне кажется очень спекулятивной книгой, неинтересной, в общем. Ну совсем мне это не понравилось, просто такая туфтень — прости меня господи. Мне стыдно очень, есть люди, которым эта книга нравится безумно. Но ко мне все это не имеет никакого отношения.
«Что вы думаете о фильме «Довлатов»?»
Уже сказал в прошлой программе. Если говорить совсем серьезно, там многие не поняли, и говорят: «Как же, неужели вам эта картина понравилась больше, чем довлатовская проза?» Нет, на самом деле довлатовская проза по крайней мере остроумна, а эта картина просто невыносимо нудна. Но я все равно считаю, что там выявились, проявились некоторые замечательные такие характерные довлатовские черты — занудство, отсутствие трагедии, отсутствие высокой планки — эти все вещи каким-то образом проявились.
«Ваше отношение к «Оскару», и насколько вы согласны с распределением призов?»
Я совершенно солидарен с Антоном Долиным, который радовался присуждению «Форме воды», не потому что мне нравится «Форма воды», а потому что мне не нравятся «Три билборда». «Три билборда», на мой взгляд — это плохой Балабанов. Со сценарием проще, я совершенно согласен, довольно изящная картина, а с остальными — тут я не берусь судить. Наверное, приз за лучшую женскую роль попал в хорошие руки. Очень символично, что сразу же этот приз во время банкета украли, чудом нашли. Лучший мультик я пока еще не видел. Но вообще награждение за «Нелюбовь» было бы, конечно, мне более приятно. Я не видел еще «Фантастическую женщину», да и как ее так сразу и увидишь, но у меня есть ощущение, что если Россия хочет…
О, отличный сюжет, делюсь: если Россия хочет получить «Оскара», то вот вам сюжет. Но это не Звягинцев должен снимать, это должна быть черная комедия, очень мастерская, тоже про трансвестита. Про то, как он не хочет больше быть мужчиной, потому что быть мужчиной — это вообще невыносимо. Мужчины грубые, они матерятся, в России быть мужчиной вообще очень трудно, потому что надо быть мужиком, а он не хочет быть мужиком, пацаном, его это все напрягает. И он в общем благополучно производит операцию. Массу можно придумать съемочных эпизодов, как он с трудом осваивается со своим новым телом, с трудом осваивается с новой гендерной ролью, пытается доказать, что он полноценная женщина, учится готовить.
И тут Владимир Путин выступает с посланием к Федеральному Собранию о том, что мы находимся в кольце врагов, и герой испытывает такой патриотический энтузиазм, что идет записываться в армию. Потому что он трансгендер, но он патриот, и в нем в этот момент взыграло мужское начало, и он бросил юбку, бросил кастрюли, сковороды, и в этом новом своем виде пошел маршировать. Это был бы гениальный сюжет, в нем было бы все, что нужно для «Оскара»: Путин, русофобия, трансгендер, можно сделать харрасмент, потому что он стал женщиной, избавился от мужских проблем, но у него начались женские, его все стали харрасить повсюду, куда бы он ни пришел. Это гениальную можно снять картину. Ребята, продается сюжет. Вообще обращайтесь, я сценарий готов написать просто практически не сходя с места. И в конце все кончается этой веселой и замечательной сценой.
Вопрос: «Осталось ли что-то от поэмы Маяковского «Плохо»?» — пришло письмо.
Ничего не осталось, и никакой поэмы не было. Все эти разговоры о последних замыслах Маяковского… У него был замысел драмы, романа автобиографического о футуризме и поэмы «Плохо», которая должна была бы реферировать, естественно, к поэме «Хорошо». Я думаю, что в поэму «Плохо» могли сложиться стихи типа «Маруся отравилась», у него есть такое, посмотрите. Тут в чем история, Маяковский, как правильно совершенно формулирует Шкловский, в последние годы стал писать вдоль темы. Вот это стержневое развитие сюжета, которое было в «Про это», лирический сюжет — это по разным причинам перестало ему даваться. И в результате он стал собирать поэмы по принципу «собранья пестрых глав».
«Хорошо» — замечательная поэма, но цельного лейтмотива там нет, кроме, может быть, ощущения бесконечной усталости и страдания, это там появляется в главе, где на оба колена упал главнокомандующий, он испытывал скорее сострадание к врагам, вот в чем проблема. И в стихотворении «Император» это очень видно, там «Коммунист и человек не может быть кровожаден» в первоначальном варианте, и так далее. Маяковский переживал не лучшие времена.
Поэтому возможно, что поэма «Плохо» была бы собрана из лоскутьев, из лоскутков его сатирической поэзии последних лет. И плохо было бы не то, что советская власть плоха, а плохо то, что она недостаточно советская, плохо омещанивание, плохи самоубийства среди молодежи, плоха сексуальная неразборчивость — то есть то продолжение Серебряного века, которое увидел он и которого он совершенно не хотел. В «Клопе» уже ведь задана вся эта ситуация — и попытка самоубийства, и омещанивание, и сексуальная неразборчивость.
Мы выпускаем сейчас в АСТ, в «Редакции Шубиной» выпускаем эту книгу, которая как раз и будет называться «Маруся отравилась» и которая состоит из рассказов двадцатых годов о свободной любви и о Танатосе, о том, как Эрос и Танатос Серебряного века перекочевали в пролетарскую среду. Это «Дело о
echo.msk.ru
Дмитрий Быков — Один — Эхо Москвы, 13.04.2018
Д. Быков― Доброй ночи, другие друзья. С вами программа «Один». Я сегодня, поскольку не работает интернет на большом компьютере, зачитываю вопросы ваши со своего скромного айфон, поэтому возможны некоторые паузы и во всяком случае неполадки. Ну, постараюсь, чтобы это было без сбоев.
Что касается сегодняшней лекции. Многие продолжают настаивать на «Истории одного города», другие — на Владимире Луговском, на цикле поэм «Середина века». Я склоняюсь к Луговскому, но принимаются и другие заявки. Что захотите — то и будет.
Пока я поотвечаю на форумные вопросы.
«Если допустить, что художественное высказывание в литературе является эквивалентом сильной, но бессмысленной музыки, а идея сама по себе — всего лишь языковое число, можете ли назвать лучших писателей, у которых безупречный изобразительный метод работает на идеологически цельное мировоззрение?»
Видите ли, мировоззрение писателя — это такая вещь своеобразная, оно формируется как раз задним числом. Сначала приходит художественное открытие, озарение некое, а потом возникает как бы оправдывающее, как бы легитимирующее его мировоззрение. Вот так было с Толстым, когда он сначала пришел к такой голой прозе, нащупав ее, собственно говоря, еще в «Азбуке», а потом у него произошел духовный переворот, который обосновал такую же неконвенциональную жизнь, вот отказ от всех художественных конвенций и отказ от всех сословных или психологических конвенций в быту.
Это всегда так бывает. Мне, помню, Житинский говорил: «Бесполезно реализовать аллегорию, если тебе явилась идея написать аллегорическое повествование. Сначала всегда приходит образ, а потом под него подбираешь толкования». Ну, как в его случае: он сначала придумал бесконечную лестницу, а потом оказалось, что эта лестница — буквально метафора безвыходности, что из дома выйти нельзя, потому что нет выхода в жизни героя. А придумал он ее тоже случайно. Он решил написать большую вещь, а в большой вещи все надо описывать подробно. И он так подробно описывал лестницу, что она ему показалась бесконечной. Он плюнул и сделал ее бесконечной. И так Владимир Пирошников оказался заперт в том доме, куда его привела Наденька. Это, кстати, одна из любимых моих повестей. И, строго говоря, это повесть, с которой я начал читать Житинского. И я всем ее очень рекомендую.
Вот Готорн, например, замечательный писатель, у него аллегория всегда объясняется с чудовищным занудным буквализмом, в рассказах особенно. А если бы он не разъяснял, то было бы и красиво, и фантастично. Ну, ничего не поделаешь, американская такая несколько пуританская традиция мешает ему отпустить свою фантазию на волю. Мировоззрение писателя никогда не иллюстрируется текстом. Скорее, текст всегда сначала предугадывает, а потом уже писатель задним числом подбирает под него мировоззрение.
«Я знаю, что у вас был какой-то разговор с Невзоровым».
У меня много было разговоров с Невзоровым, интервью штук восемь и до этого, и после этого. Мы с Невзоровым достаточно тесно общаемся.
«Можете рассказать о нем что-то, чего до личного общения с ним не знали или не понимали? Мое к нему отношение примерно такое: интересно, но не согласен. Хочется постоянно его критиковать. А вы похвалите, если есть за что. Это очень интересно».
Ну, во-первых, Невзоров — первоклассный профессионал. Он действительно излагает свои убеждения. Другой вопрос — убеждения ли это? Думаю, что убеждения. Излагает их с великолепным напором, убедительно, наглядно, доказательно. И вообще он один из классиков устной речи, и доказал это еще в программе «600 секунд», где все эти 600 секунд разговаривал неутомимо, кроме того, будучи первоклассным репортером с идеальным чутьем и хорошими связами во всех новостных источниках. Он человек серьезный, талантливый, замечательный биолог, судя по тому, что я знаю. Я-то не профессионал, но есть отзывы профессионалов.
Мне кажется, что он человек опасный (а в моих устах это комплимент). Опасный в том смысле, что он много знает про всех, умеет этими знаниями пользоваться. И его чрезвычайно трудно купить или приручить. Невзоров работает на себя, а не на кого-то. Тщеславие его велико. Но, конечно, движет им не тщеславие, движет им желание нести в мир истину, как он ее понимает. Он ненавидит иллюзии любые. Это как у Толстого, который вот ненавидел конвенции.
Мне кажется, что такой безыллюзорный мир был бы неинтересен, поэтому я и говорю, что, смотря на вещи, как Невзоров, я бы не смог писать. Даже дело не в том, что вот знай я столько по биологии, а просто смотри я под этим углом. Ну, этот угол тоже предоставляет возможности для творчества довольно интересные, для отчаяния экзистенциального. В общем, у него интересное мировоззрение, и он интересный человек. Но, конечно, не стоит надеяться на то, что Невзоров будет во всех ситуациях, если вы сейчас ему нравитесь, во всех ситуациях на вашей стороне. Он на своей стороне. Ну, это примерно как Лимонов.
«Можете ли вы немного рассказать про Колычева из «Июня»? Это особенный типаж, или вы знаете кого-то, на кого сделали его похожим? Нравится ли он вам?»
Скорее нравится. Я вообще люблю маргиналов. И мне интереснее писать не про тех людей, которые в тридцать девятом или в сороковом году составляли большинство, а про тех людей, которые были нетипичны, но многое понимали. Вот эти люди мне интересны, безусловно. Точно так же маргиналы по меркам двадцать третьего года — герои «Остромова». Точно так же маргиналы по меркам восемнадцатого года — герои «Орфографии».
Я согласен с Александром Шаровым и с Владимиром Шаровым, его сыном, что история делается в тупиках, а не на магистралях. И интересны не те люди, которые составляют большинство, а те люди, которые сидят в каких-то щелях и там понимают все, не участвуя в главных процессах и не заслоняя своего зрения. Вот это мне важно. Колычев похож на Алика Ривина, стихи которого он там цитирует. Но он похож вообще на многих поэтов того времени и на многих людей того времени, которые именно в силу своей маргинальности, частных и невеликих приработков, знакомства со всякими экзотическими коллекционерами, такими несколько вагиновскими, умудрялись существовать, не замаравшись главными ошибками и главными преступлениями эпохи. Колычев — неприятный человек. А приятные люди редко бывают хорошими (и наоборот).
«В чем Миша Гвирцман виноват? Если тут можно говорить о долженствовании, неужели он должен был не падать в эту черную дыру, а держаться светлой звезды?»
Кирилл, спасибо, что вы прочли «Июнь». Но дело в том, что Валя совершенно не «черная дыра». Она просто такая девушка с тяжелым прошлым, с такими довольно сложными корнями. Как все интеллигенты в первом поколении (а ей предстоит стать именно интеллигентом в первом поколении), она человек с изломанной психикой, обреченный, скорее всего, на недолгую и не очень счастливую жизнь. И если у нее и есть какие-то грехи… Ну да, там она оклеветала Мишу. Но ведь, во-первых, это придумала не она. Во-вторых, она жестоко раскаялась. В-третьих, она его по-настоящему любила. Это вот именно любовь.
Моя задача — не морально осудить героев. И про мораль все что можно Михаил Алексеевич сказал в романе «Остромов», и я под этими словами подписываюсь: «Больше всего, Наденька, бойтесь подлой их морали». Мораль — это просто способ одного человека ставить себя над другим, и все. А есть более тонкие вещи и более значительные. Я не осуждаю героев. Меня интересовало показать в «Июне», каким образом эпоха давит на людей и деформирует их чувства; показать эпоху не через газетные статьи и не через политические склоки, не через военные сводки, а через ее воздействие на самое простое — на человеческие отношения, на студенческие романы, на общение в дружеском кругу и так далее. Показать эту деформацию и из этой деформации вывести мысль о неизбежности разрядки, о неизбежности разрядки этого невроза. Вот и все. Поэтому искать там, кто прав, а кто неправ, мне, в общем, никогда не представлялось нужным. Но в любом случае спасибо, что читаете.
«Доброй ночи, — доброй ночи, Наташа. — Давно хочу вас поблагодарить за один рассказ, который вы написали в 2007 году из сборника «Думание мира». Это рассказ в форме письма отца к сыну о странностях, о любви, о женщинах определенного психотипа. Расскажите, как вы его писали. И что думаете об этом сейчас?»
Имеется в виду не рассказ, а такое эссе, которое называется «Бди». Действительно, надо бдительно крайне относиться к женщинам определенного типа. И там рассказывается о том, что эти женщины требуют от вас максимума, и в этом их неотразимая притягательность.
Вот я давеча на лекции про «Доктора Живаго» для подростков решал с ними мучительный вопрос: а что собственно мы называем роковой женщиной? Что входит в понятие femme fatale? Там разные были предложены варианты ответов. «Женщина, которая не знает, чего она хочет». Да, femme fatale обычно не знает, она обычно хочет большего, ей всего мало. Да, femme fatale обычно (там сказано) получает наслаждение не от любви, а от нелюбви; больше того — от сталкивания лбами разных партнеров. В нем есть такая, в общем-то, не очень приятная черта. Ну, femme fatale обычно очень рано начинает свою женскую жизнь и всегда является жертвой растления, часто инцестуального. Тоже есть такая черта.
Но главная черта роковой женщины та, что она требует от мужчины его максимума, что она заставляет его проявить максимальную смелость, максимальный талант, максимальную мерзость иногда тоже. «Ну, что можно сделать с Настасьей Филипповной? — спрашивает Розанов. — Только убить ее, потому что всего остального ей мало». Не помню дословно, но суть идет об этом.
И вот мне кажется, что персонаж, описанный в рассказе «Бди»… не в рассказе, а в эссе, он действительно малоприятен. Ну, это как Милдред в «Бремени страстей человеческих» у Моэма, не самая приятная женщина. Но все-таки, если бы не Милдред, то Филип был бы другим человеком. Филипа бы не было, он не был бы ни художником, ни мужчиной. Вот они зачем-то нужны. Сами по себе они могут быть ничтожные, но они заставляют нас проявлять какие-то выдающиеся качества. Не все они обязательно замешаны в промискуитете, не все они обязательно легко меняют партнеров, хотя меняют. Это такой их единственный доступный им способ познания жизни. Но как бы секс в их жизни вообще не главное. В их жизни главное — вот этот поиск эмоционального диапазона, не стесненный никакими этическими границами. Хотя Веллер-то полагает, что все люди только тем и заняты, что ищут максимальный эмоциональный диапазон.
Применительно ко мне это не так, во всяком случае сознательно не так. Я не пытаюсь искать приключений непрерывных на свою биографию. Мне хотелось бы как раз, наоборот, до некоторой степени социально-аутично скрыться в свою нору и там тихо жить с любимыми людьми. Но я не осуждаю, по большому счету, женщин, с которыми связаны наши наиболее яркие воспоминания — именно потому, что если бы не они, мы бы многого не понимали. Другой вопрос в том, что, получив эти «прививку», надо благополучно куда-то деться, понимаете, потому что так же смешно от этого зависеть, на это подсесть, как все время колоть себе оспу, эту сыворотку. Ну, один раз привился — и достаточно. Один раз шрамом обзавелся — и будь доволен. А дальше уже пора жить нормальной человеческой жизнью с любящими и понимающими людьми.
«История одного города»? Ладно.
«История Гулливера — это ведь не только политическая сатира, но и грустные размышления о природе человека. Зачем это нужно было Свифту?»
Андрей, затем, что Свифт вообще не сатирик. Свифт — философ. Он размышляет онтологически, а не социально. Его интересует природа человека, поверяемая разными критериями. Человек среди карликов, когда он самый большой. Человек среди великанов. Человек среди существ высшего порядка — гуигнгнмов. Человек среди элиты — лапутян, которые живут отдельно, на летающих островах. Это давно придуманная реализация метафоры, что правительство живет на другой планете, и поэтому здесь… Летающие острова — это такая довольно пророческая мысль о грядущем неизбежном социальном расслоении, более того, разноэтажности жизни. Жителям академии в Лапуту уже необязательно спускаться на землю. Потом Уэллс довел эту мысль до великолепного абсурда, описав элоев и морлоков. Мне кажется, что вот это разделение человечества на две биологические ветки Свифт почувствовал очень точно.
Свифт не был сатириком в примитивном смысле. И «Сказка бочки» — мне кажется, самое социальное из его произведений. В остальном Свифт гениальный писатель, один из моих любимых, кстати, замечательный поэт. Я помню первое стихотворение, которое я перевел с английского, — это автоэпитафия декана Свифта. Помните вот это «Fair liberty was all his cry»? Для меня Свифт — это действительно один из выдающихся, из величайших прозаиков Британии, во многом заложивших основы современной британской прозы, далеко не только сатирической. И конечно, сводить его к социальной насмешке, всегда очень злой и остроумной, было бы неверно.
Он вообще такой, понимаете, мизантроп. Но я мизантропию люблю, потому что… Я сейчас как раз перевожу «Мизантропа» Мольера для одного хорошего театра и лишний раз убеждаюсь в том, что и Мольер, конечно, писал там некий автопортрет. Вещь находится, я думаю, под непосредственным влиянием «Гамлета», с которым Мольер, вероятнее всего, был знаком, там есть просто прямые цитаты. Но это такой «Гамлет», конечно, несколько более мягкий, менее объемный, более примитивный. Но то, что эта пьеса в одном ряду с «Гамлетом» — для меня безсомненно.
«Что бы вы могли почитать из творчества Людмилы Петрушевской, Виктора Ерофеева и Всеволода Бенигсена?»
Довольно странный ряд. Из Петрушевской, я думаю, все, но прежде всего романы. У нее два романа — «Нас украли» и, конечно, «Номер один». «Номер один» читать просто надо, это главная книга нулевых годов, как бы итожащая во многом размышления и Пелевина, и Сорокина, и их методы. Очень авангардный, очень смело написанный, глубокий, тщательно продуманный роман с замечательным фантастическим сюжетом и с потрясающей речевой игрой. Ну, рассказы Петрушевской имеет смысл почитать — не все, конечно, а в первую очередь «Гигиену», «Новых Робинзонов» и весь цикл «Реквиема», в основном «Смысл жизни». «Кто ответит», конечно. «Силу воды», конечно.
Ну, как бы надо одновременно читать Петрушевскую и Валерия Попова, мне кажется, потому что это как бы орел и решка, такие аверс и реверс. Попов, все это понимая и видя, на этом не фиксируется и пытается упирать на такую летучую прелесть жизни, на легкость ее. А Петрушевская этого не делает. Она сосредоточена на самых болезненных и самых страшных сферах жизни. И, наверное, читать только это неправильно. А читать это как бы в таком комплементарном союзе с кем-нибудь из современников бывает чрезвычайно полезно. Ну, как бы там ни было, Петрушевская сама по себе крупнейший писатель нашего времени.
Виктор Ерофеев? Что из Виктора Ерофеева? Я думаю, прежде всего его литературоведческие статьи, а особенно то, что он написал о де Саде. Это интересно и познавательно.
Из Всеволода Бенигсена? Я думаю, что здесь нет большой разницы, любой его роман дает о нем представление. И все это на довольно хорошем уровне. Я думаю, что одного-двух романов вполне достаточно для ознакомления с его приемами и методами. Хороший писатель, да, вполне себе. К тому же мне кажется, что он нас еще много раз удивит.
«Ваше отношение к двум Ерофеевым — Венедикту и Виктору? И как они соотносятся?»
Никак абсолютно. То есть между ними, кроме некоторых синхронности исторического проживания и филологического образования (по-моему, в случае Венедикта незаконченного), никакого сходства я не наблюдаю.
«Видели ли вы фильм «Мама!» Даррена Аронофски? — видел. — Как вам библейский сюжет в фильме ужасов?»
Тимофей, практически все фильмы ужасов (об этом много говорил Арабов) построены на библейских сюжетах, и не только фильмы ужасов, но вообще большинство голливудских сюжетов. Я не думаю, что «Мама!» — это прямо уж такой библейский сюжет, а скорее такой современный миф о демиурге. Фильм, как всегда у Аронофски, довольно высокопарный, много лишнего там, на мой взгляд. Ну, виден талант огромный.
echo.msk.ru